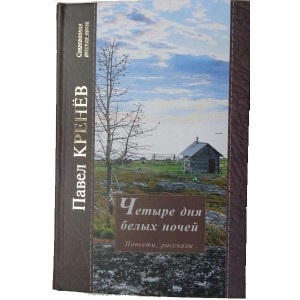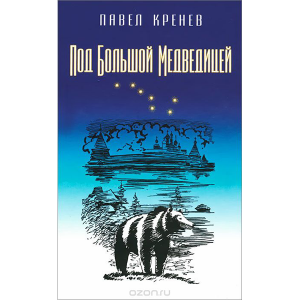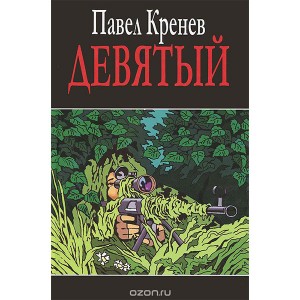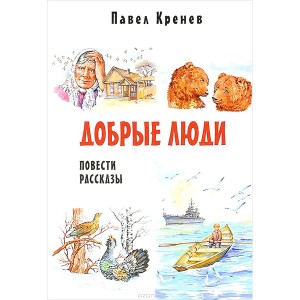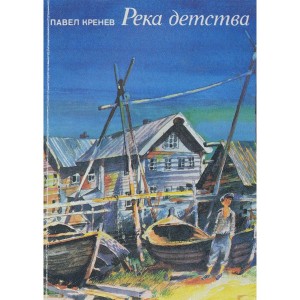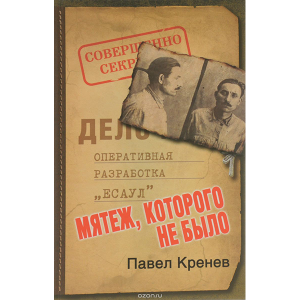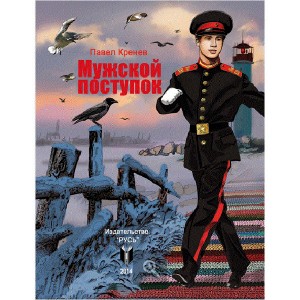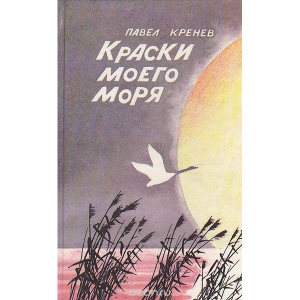Павел Кренёв
Ой, туманы вы, да разноцветные,
Пораскинулись вы предо мной.
Что ж вы застите мою заветную
Да путь-дороженьку в мой дом родной.
Мне б домой попасть, да ко крылечечку,
Где ногами босыми ходил.
Только вот напасть – болит сердечечко,
Злой туман лежит и нету сил.
Позади туман – там все лежат друзья
Во сырой земле да во дали.
Впереди туман – да и туда нельзя:
Там враги в дозоре залегли.
Ой, туманы вы да распахнитеся.
Красно солнышко да покажись,
Плечи вы мои да распрямитеся,
Я хочу начать другую жизнь.
Где туманов нет, а есть цветы и свет,
Где не льется кровь, не слышен бой,
Где над озером купается рассвет,
Там, где ждет меня отец родной.
Жизнь моя – война, а я на ней устал,
Мне бы красну девушку обнять.
Я так мало жил, и я так мало спал,
Я хочу туманы разогнать.
- Подробности
- Автор: Тамара
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
МУРМАНСКИЕ ВСТРЕЧИ
|
Всероссийская Арктическая литературная премия имени Виталия Маслова подвела итоги, и учредители пригласили в Мурманск победителей для награждения. Пригласили и экспертов конкурсных текстов, в том числе меня. В Шереметьево встречаю писателя Владимира Николаевича Крупина – председателя конкурсной экспертной комиссии Арктической премии. Он в ранней утренней спешке оставил дома телефон, и мы не смогли созвониться, чтобы договориться о встрече, но в зоне вылета не разминешься. Владимир Николаевич свеж и бодр, живо интересуется, как я долетел до Москвы с Камчатки, а затем, оглядывая зал, восклицает: - А вон и Павел Кренёв! Идём к нему? Подсаживаемся с Крупиным к нему за столик, но почти сразу объявляют посадку на наш рейс до Мурманска. Начинается моё новое, долгожданное литературное путешествие!
1. Виталий Маслов и Дмитрий Коржов Имя Виталия Маслова дали Арктической литературной премии не случайно. Он для Кольской земли, для Мурманска свой, оторвать невозможно. Писатель, краевед, общественный деятель, да и просто неравнодушный и честный русский человек. Слово «русский» я привёл здесь не случайно, по свидетельству людей, знавших Маслова, он боролся за это слово. Боролся, как до сих пор борются многие из нас, сознательно избегая названия «россиянин», когда речь идёт о нас, русских. Да, мы, живущие в России, - россияне, гордимся этим, любим родную Россию, но мы в первую очередь русские. Чиновничество, особенно иных кровей, да и наши трусы и подхалимы старательно отучают нас от русскости, сами никогда не назовут русских русскими – только россиянами, но мы – русские, и так должно быть, и будет! Поэтому и Виталий Маслов боролся вместе с нами за это дорогое нам слово. Это не национализм, этим мы не унижаем и не обижаем другие российские народы, а наоборот ставим себя в общий ряд народов России. Виталий Семёнович Маслов родился 1 сентября 1935 года в старинной поморской деревне Сёмжа на севере Архангелогородчины, на берегу Мезенского залива Белого моря. Сегодня этой деревни нет, умерла деревня. «Из тоски по преждевременно умершей Сёмже и родился русский писатель со своей пронзительной болью и жалостью, резкий, угловатый, непримиримый ко всему неискреннему и ложному, с прямою поморскою душою, что свойственно северной натуре. Но писатель Маслов родился и из мечты о возрождённой деревне, это его костёр, на котором он – добровольный самосожженец, убеждённый, верующий в высшую справедливость и в дух поморского братства, вольно и невольно рассыпавшегося по Руси. Писатель Маслов родился из памяти. Он, как старорусский летописец, добровольно вбирающий память ушедших, беззаветно любя этих ушедших с их доблестями и грехами». Это написал о Виталии Маслове его земляк и коллега по перу Владимир Личутин, а привёл эту выдержку в своей книге о Маслове мурманский писатель Дмитрий Коржов. О писателе Дмитрии Коржове тоже достойно сказать хорошее слово. Знакомство с ним как раз и дало возможность понять силу мурманских литераторов. Дмитрий – человек не только начитанный и умный, но еще и обладатель прекрасной памяти. Он, как и герой его книги «Несмирённый живописец» Виталий Маслов, говоря словами Личутина, добровольный летописец края родного. Он так и сыплет именами писателей, прочей культурной публики, бывавшей здесь, на Кольской земле, отметившейся хорошей памятью о себе. Так и сыплет рассказами о героическом прошлом этой северной земли, цифрами, номерами воинских частей, именами и фамилиями. Слушать его – не переслушать. И всякий раз удивляешься его знаниям, а читая его книги – живому языку. Но пока речь не о Коржове, так как не всё ещё сказано о Маслове. Его мать Александра Никифоровна из поморского рода Дружининых, один из родоначальников которого ходил с Семёном Дежнёвым на край земли, встреч солнцу. И не случайно сын её Виталий, наш герой, впитал через кровь предков, через гены вечное стремление к новому, неизведанному, особенно к северу. Окончил в Ленинграде мореходку и по распределению уехал на Сахалин, в Холмск. Ходил по морям Тихого океана, бывал на Курилах и Камчатке. Однажды у берегов Камчатки масловский пароход попал в жесточайший шторм, когда всё вокруг кувыркалось и летало. Моряки дали зарок: останемся живыми – бросим море. Но их спасли, привели пароход на буксире в Петропавловск-Камчатский. Успокоившись, про зарок моряки забыли. Это случилось в 1956 или 1957 годах. Теперь я уверен, что не случайно меня пригласили в Мурманск с Камчатки – так Бог распорядился, ведь и через наш полуостров прошла жизненная дорога Виталия Семёновича Маслова. После Сахалина Виталий Маслов ушёл на всю навигацию в Арктику, затем три года жил и работал в Тикси. Там познакомился с писателем Семёном Шуртаковым, ставшим на долгие годы наставником начинающего литератора Маслова. Судьба вела его морями и севером. И вскоре привела в Мурманск, а там - на ледокол «Ленин», куда он устроился радистом. Наша писательская делегация посетила это легендарное судно – первый советский атомный ледокол, который теперь навечно встал в порту Мурманска в качестве музея Арктики и ледокольного флота. На борту «Ленина» бывали многие знаменитости, в том числе Юрий Гагарин и Фидель Кастро. Виталию Маслову довелось разговаривать с Фиделем при его посещении ледокола, и даже пригласить на свою свадьбу, которая была запланирована на тот же вечер. И Фидель согласился, но присутствующий здесь же Анастас Микоян отговорил кубинского лидера и взамен пригласил молодую чету Масловых на закрытое мероприятие с Фиделем Кастро, на которое Масловы пойти всё же не решились. Атомный ледокол «Ленин» стал для Виталия Семёновича Маслова родным кораблём «на всю жизнь, до смерти», - как сообщает в книге «Несмирённый живописец» её автор Дмитрий Коржов. Но это – работа. Пусть и любимая, на знаменитом атомоходе, а главной в жизни Маслова всё же становится литература, а вскоре и общественная деятельность. Он думает, он пишет о Севере, который хорошо знает. Лично для меня удивительным было узнать, что День славянской письменности и культуры зародился и впервые отмечался 24 мая 1986 года именно в Мурманске. Закономерный вопрос: почему в Мурманске? Дмитрий Коржов даёт в своей книге ответ: «Да потому, что у нас был Виталий Маслов»! Маслов задумал этот праздник. Маслов его пробил, именно пробил, ведь ещё Ленин объявил Кирилла и Мефодия «мракобесами», поэтому праздника такого в советской стране не было, партийная дисциплина не позволяла. Но в 1986 году его провели в Мурманске как областной, хотя приехали на праздник многие звёзды культуры, в первую очередь литературы. Среди тех, первых, был Владимир Крупин. Он и теперь находится здесь, с нашей делегацией, и мы 24 мая приняли участие в очередном (уже очередном и всероссийском!) празднике у величественного памятника Кириллу и Мефодию возле областной библиотеки. В создании этого памятника «без Маслова не обошлось», - замечает Дмитрий Коржов. - Появление в столице Кольского Севера этого памятника – тоже дело рук Маслова и его соратников». Мурманский памятник – копия того, что стоит в болгарской столице Софии. Это тоже Маслов пробил. Изготовили памятник опять же в Болгарии, затем привезли в Мурманск. Вот таким был человек, имя которого носит Всероссийская Арктическая литературная премия. Многое интересное и лучшее на Мурманской земле связано именно с ним. Дмитрий Коржов сладил хорошую книгу о Виталии Маслове. Она раскрывает не только биографию этого замечательного человека, подвижника и писателя, но и внутреннюю его суть. А суть эта яркая, настоящая, человеколюбивая. И язык у книги хорош. Жаль, плохо вычитана книга, а то и вовсе не вычитана. Но язык подкупает, поэтому ошибок как бы и не замечаешь. Такому автору как Коржов, можно многое простить. Недаром он стал лауреатом Арктической литературной премии – этого, первого лауреатского потока, которому мы и прилетели вручать награды. Получил он премию за книгу «Мурманцы». Книга эта – роман-трилогия под одной обложкой. Каждая часть трилогии посвящена определённой исторической эпохе: гражданская война, Великая Отечественная и «оттепель» 1960-х годов. Через пятидесятилетний отрезок российской северной истории проводит автор своих героев. Их судьбы очень непростые, впрочем, как и судьба Мурманска. В первой части трилогии город совсем юный, он и на город-то ещё не похож, недаром автор сравнивает его с тесной подводной лодкой: «Пустой и зловещий бесфонарный Мурманск за черным окном терялся меж снежных сопок, на дне тягучей и неоглядной полярной ночи. Так затаившийся на дне подводный крейсер ждет своего часа». Но «свой час» для Мурманска долго не наступал, испытаний городу хватило с лихвой. «…После ухода союзников (англичан – А.С.) Мурманск стал другим. Жестче и страшнее. «Хлеба стало меньше, а воров – больше», – горько шутили мурманцы. Не хватало продовольствия, паек, не в пример тогдашней Советской России, выдавали, но что там было – кошачьи слезы… Спасали рыба и оленина, что привозили в город лопари. До голода дело не дошло, но и недостатка в питании оказалось достаточно для того, чтоб город захлестнула волна болезней – от чесотки и цинги до «испанки», тяжелейшей, изнурительной формы гриппа. Почти нормой стала невеселая традиция не выплачивать жалованье. Для работы, даже самой черной, тяжелой, все чаще привлекали женщин». Но и это оказалось не самым страшным по сравнению с годами Великой Отечественной войны. В июле 1942 года немецкие бомбардировщики почти полностью разрушили и сожгли зажигалками город и порт. Но сюда продолжали приходить корабли с лендлизовскими грузами. Горожане держались, горожане работали на победу. И всё это мастерски описано Дмитрием Коржовым. В заключительной части трилогии Мурманск оживает, наступает политическая «оттепель» 1960-х годов. Люди расправляют плечи… «Город родился на сопках. Обосновался, разлегся державно вдоль черной глади незамерзающего моря, Кольского его залива. Постепенно разросся, окреп. Так уж случилось – одни камни вокруг. И дома на них, а теперь уже и улицы, и площади, и проспекты. Он пошел в рост направо и налево по скалистой кромке залива – до Росты с одной стороны, Северного Нагорного с другой. Но и вверх принялся взбираться – по тем же черным, неуступчивым камням. Еще не слишком настойчиво, но упрямо. На Жилстрое и Микояна было грязно и лужи по колено, но дома уже стояли – не только бараки. И строились новые…» В 2022-м мы застали Мурманск если уж не писаным красавцем, то вполне ухоженным и современным. А над городом и Кольским заливом возвышалась огромная фигура солдата – Алёши Мурманского. Солдата неизвестного, символического, но олицетворяющего героизм и стойкость всех советских людей, северян в годы войны. Да, наверное, и не только в годы войны… «Пустота бы и осталась. Если бы не люди. Только благодаря им город снова ожил, вернул, отвоевал навек плацдармы, отданные пустоте, и не торопко, по-хозяйски степенно и неуклонно вновь поднимался ввысь, вовсю обустраивал третью террасу, уже всерьез, без лишней болтовни, задумываясь о четвертой». Мы поднялись к Алёше Мурманскому. И там, на высоте, над городом, откуда виден он весь вместе с портом и длинной лентой залива, писатель Дмитрий Коржов увлечённо рассказывал о любимом городе. А вечером в областной библиотеке ему вручили лауреатский диплом Арктической литературной премии. За роман-трилогию «Мурманцы».
2. Николай Иванов и Владимир Крупин У меня есть книга Владимира Крупина «Последний бастион Святости», подаренная мне автором в 2014 году. Дарственная надпись замечательная: «Брату во Христе Александру Смышляеву от автора. По фамилии матери я тоже Смышляев. Живи долго! Трудов и радостей!» и подпись. Мне эта книга дорога. И потому что от Крупина, и потому что он по матери Смышляев, и потому что наполнена она особым светом крупинских мыслей – умных, патриотичных, дерзких и житейски точных. Одни названия глав книги чего стоят: «На войне нет нервов», «Жертва вечерняя», «Россию спасёт святость», «Эти непонятные русские», «Незакатный свет. Из записок паломника». Уже по этим заголовкам можно понять о чём книга. «Мы – православные, значит, самые счастливые люди на Земле». – это утверждение автора проходит через все тексты. И правда, читаешь и чувствуешь, что за каждой строчкой стоит радость от той высоты, на которой находится православный автор. Далеко внизу горести, раздражения, даже беды, а он смотрит на них сверху, с православных высот и чувствует себя победителем. «Кто в мире главный? - вопрошает Владимир Крупин. – Неужели международный валютный фонд? Смешно. Главный в мире Тот, Кто создал мир, - Господь Бог. А уже потом идёт земная иерархия. И ближе к Богу те, кто наиболее принял в сердце Христа. Это, конечно, Россия и Сербия». Книга публицистическая. Но публицистика Владимира Крупина - без всякой политологии и идеологии, она – суть бытовая. В ней Крупин прост, как равный собеседник. Но не примитивен, а наоборот – мудр и частенько выстреливает сердитым слогом, а то и негодует, возмущается, обличает, не боясь обидеть сильных мира сего, потому что – мы помним – «главный в мире Тот, Кто создал мир». «… Библейская истина о лжецах – слугах сатаны – подтверждается. Нам врут и врут, обличая прежде всего самих себя. Ну кто поверит медведю в демократическом зоопарке, что он свергнул прежнюю партию коммунистов ради счастья народного?» И немногим далее: «… И всё это покрывается жеребячьим ржанием жваноидов сильно голубого экрана. Образование готовит англоязычных биороботов, легко превращаемых в голосующую биомассу, в зомбированный либералами электорат. И на всё это смотреть? С этим смиряться? Нет! У них деньги, у нас любовь к родной земле, и нас не купишь. Другой жизни у нас не будет. А отчёт за свою единственную жизнь придётся держать каждому. Пять матерей у нас: та, которая родила, крёстная мать, мать сыра земля, Божия Матерь и Россия. Это главное понимание стояния человека на земле. На том стоим и с поля боя за Россию не уйдём». Стояние! Этим Владимир Крупин понятен и близок русскому читателю. Он размышляет, рассказывает о своих личных ощущениях жизни, а получается, что наших общих. Писатель Владимир Крупин – величина. Его любят и уважают читатели. Его дружбой гордятся писатели. Горжусь и я. А теперь в компании с Владимиром Крупиным прилетел в Мурманск. Но держится Владимир Николаевич просто. Деликатничает: «Саша, извини, что приходится беспокоить, не дашь ли свой телефон позвонить жене?» Теперь этот телефон хоть в музей сдавай! Здесь, в Мурманске, бывал он не раз, а потому и встречают его как старого, испытанного друга. В 1986 году он был одним из тех, кто праздновал здесь первый в России День славянской письменности. И опять попал на этот праздник. Мы все на него попали, вручение Арктической литературной премии специально и приурочили к нему. После первых лиц области и города поднялись на трибуну рядом с памятником Кириллу и Мефодию председатель Правления Союза писателей России Николай Фёдорович Иванов и сопредседатель нашего союза Владимир Николаевич Крупин. Мурманцы встретили их дружными аплодисментами. Народу было много, люди заполнили всю площадь перед областной библиотекой и памятником. Николай Иванов приветствовал горожан, а затем объявил: - Мы в Союзе писателей России учредили высшую награду: почётный знак «За заслуги в литературе». У Владимира Николаевича Крупина достаточно заслуг в литературе, вы это знаете, и я мог бы вручить ему эту награду в Москве, но сегодня я хочу вручить её именно здесь, перед вами, потому что отсюда он со своими коллегами и друзьями начинал этот великий праздник. И на этом месте, при этом памятнике я вручаю тебе, Владимир Николаевич, почётный знак «За заслуги в литературе» за номером один. Что тут началось! Люди одобрительно кричали «Ура! Правильно!», и когда Крупин взял ответное слово, ему пришлось выдержать паузу, дожидаясь тишины на площади. Красиво и торжественно отмечают в Мурманске День славянской письменности и культуры. Он один из главных праздников города. И, наверное, не только потому что отсюда он пошёл по России, а ещё и потому, что мурманцы любят, чтят русское слово, наш родной и великий язык. «В русском слове есть тайна, - пишет В. Крупин всё в той же книге «Последний бастион Святости». – Она в любви к Родине. Любишь Отечество – слово доверяется тебе, позволяет использовать его, оно соединяет твоё сердце с сердцем читателя. Не любишь Россию, и пиши, и долдонь сколько угодно – всё улетит на ветер, это не слова, а высохшие их оболочки. Говоришь, что пишешь правду, но правда без любви – это жестокость… Но язык русского писателя, а в идеале всякого пишущего на русском языке, это не язык политиков, не язык дипломатов, которые договорились до того, что язык дан для скрывания своих мыслей, это свидетельство для вечности о времени, которое судьбой досталось писателю и которое он обязан правдиво и доказательно описать…» Ох уж этот Владимир Крупин! О нём писать и его цитировать можно бесконечно. А в цитатах и точку поставить негде – он вьёт и вьёт мысль, и всё к месту, и всё нравится, и всё поучительно – не остановишься. Заслужил Крупин почетного знака «За заслуги в литературе» номер один! Ох, заслужил! Николай Фёдорович Иванов прилетел в Мурманск позже нас. И не удивительно: некогда человеку. Диву даёшься, читая писательские новости: Иванов здесь, Иванов там! Много дел у председателя огромного Союза писателей России, одних региональных отделений почти сотня, и в каждом что-нибудь да происходит, что требует присутствия председателя. А ещё и свои книги писать надо! Столько реализованных задумок в Союзе писателей России после избрания председателем Николая Иванова! Памятные статуэтки классиков литературы для вручения писателям, грамота за заслуги в литературе (заодно похвастаюсь: и мне такая грамота вручена), объявление отличившихся в любви к литературе городов и областей «территориями литературы», а губернаторам – вручение почётного звания «Губернатор литературной России». Такого звания был удостоен во время торжественного вручения Арктической литературной премии губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис. Но перечисленное – далеко не всё, надо сказать ещё и о литературных премиях, в учреждении которых участвует Союз писателей России. И одна из них – видная, особо престижная – Арктическая премия. В гостинице общение тесное. Я собрал в своём номере участников нашего мурманского писательского десанта, чтобы скромно, по-дорожному отметить мой уже состоявшийся к тому времени юбилей. Но центр внимания быстро перешёл от меня к Николаю Иванову. У председателя интересовались тем и этим. И он обстоятельно и толково отвечал на все вопросы. К нему тянутся. Нравится неуёмной активностью, военной выправкой наряду с моложавостью, умением разговаривать просто и на равных. Как человек военный, он мыслит быстро и чётко. И как военный, он стремится наладить в Союзе ответственность, в первую очередь – среди секретарей и региональных руководителей Союза. И у него получается! Особо надо сказать о позиции Союза писателей России относительно спецоперации в Донбассе и на Украине. Очень чёткая позиция, поддержанная большинством: за! Как написала в одной из своих публикаций писатель из Курска Марина Маслова: «С первых же дней специальной военной операции России я и мои коллеги единодушно поддерживали друг друга девизом: «Наше дело правое – победа будет за нами!». Эти слова повторяла я дома, в семье, среди своих учеников и читателей. И невозможно было думать как-то иначе. Иначе невозможно было бы жить!» Николай Иванов сумел сплотить нас. И не только в этом вопросе. В 2020 году в «Литературной газете» было опубликовано интервью с Н. Ф. Ивановым, и он, в частности, говорил: «У нас заработали регионы, и я благодарен именно руководителям региональных организаций за то, что они увидели, почувствовали, что Москва их любит, знает, ценит, уважает. У нас сейчас много командировок. Я однажды прилетел из Чечни в 12 часов ночи, а в 3 часа ночи у меня уже был поезд на Белгород, и я из аэропорта помчался на Курский вокзал, чтобы не опоздать». Насыщенная жизнь. В том числе творчеством. Почему «в том числе» - понятно, ведь такая нагрузка на посту председателя! Но проза Николая Иванова, несмотря на это «в том числе», добротная, а главное – классическая и интересная до полного захвата читателя. Хорошо помню, как ждал продолжения его романа «Реки помнят свои берега», вышедшего в журнале «Наш современник» в октябрьской книжке 2020 года. Ждал следующих номеров с продолжением, а затем с окончанием романа. Читателя, не знакомого с творчеством Николая Иванова, моментально ориентирует и настраивает на интерес к нему эпиграф к роману: «Боже… Ты допускаешь страдания избранных Твоих, чтобы они, как золото, на огне и через огонь страданий очистились… и ещё больше засияли» (Молитва о русском народе епископа Николая Велимировича, Сербия, 1935). Одного поля ягоды Иванов и Крупин. Николай Иванов в романе: «Люди вообще странные существа. На одном языке говорить не научились, но при этом спорят, кто из них ближе к Богу. Только ведь Всевышний охранной грамоты на главенство никому не выдавал…» С первых строк романа автор интригует читателя. Вплоть до короткой фразы о русских боевых пловцах, действующих за рубежом. До описания побега из зарубежного заточения русского пленника, оказавшегося офицером спецслужб Егором Буерашиным – «последним солдатом почившего Советского Союза». До вызволения мальчика, посаженного на цепь зажравшимся богатеем-фермером. До выполнения спецзаданий верных Родине офицеров даже тогда, когда генералы забыли о них. Вырвавшийся на свободу пленник Егор Буерашин, его отец, его верные и неподкупные сослуживцы, девочка Анютка да учительница Вера Родионова понесут далее на себе сюжет романа, вовлекая в него всё новых персонажей. И хитросплетение судеб героев даст роману особую остроту, присущую прозе Николая Иванова. Так будет и в последующих его произведениях, в той же повести «Суворовец Воевода – боец республики». Читая роман, задаёшься вопросом: откуда автор знает детали подготовки «дальних» разведчиков ГРУ? Откуда знает специфику их службы? Откуда знает тонкости тюремной жизни? Потом вспоминаешь, что в своё время офицер Николай Федорович Иванов был награждён, помимо прочего, медалью «За отвагу», что был в плену, что редактировал военный журнал, и вопросы отпадают. Из Мурманска в Москву мы улетали одним рейсом – Николай Иванов, Владимир Крупин и я. А перед этим вечер провели в гостинице также втроём за долгой беседой. Многое довелось мне узнать и о том, и о другом собеседнике, а главное – окончательно убедиться, что оба стоят на переднем рубеже настоящей, традиционной русской литературы.
3. Камиль Зиганшин и Дмитрий Новиков Камиль и до этого был моим добрым товарищем по перу и заочным другом. Но теперь мы оказались в одной компании и окончательно сблизились. Удивительный человек! Даже то в нём удивительно, что он, татарин по рождению, живущий в Башкирии, исповедует православное старообрядчество. Во как! Путешественник и страстный любитель природы, особенно северной и дальневосточной, он и пишет об этом. И, конечно, о старообрядцах. Его роман «Хождение к Студёному морю», за который он и получил первое место и лауреатство Арктической литературной премии, как раз о них – старообрядцах сибирского севера. Когда мне, как эксперту, прислали из Мурманска его роман, я зачитался им. К сожалению первые два романа, предваряющие этот, мне в руки не попались, а в них, как я теперь понимаю, рассказывается, в числе прочего, история Сибирской дружины генерала Пепеляева – последнего белого отряда, после пленения которого в июне 1923 года была поставлена окончательная точка в гражданской войне в России. Я и сам исследую эту тему, поэтому хотелось бы почитать и Зиганшина. Но пока взялся за этот, третий роман о старообрядцах, спрятавшихся на Алдане. «Погружаясь в мир староверия, понимаешь, что у этих сильных духом людей можно поучиться способности преодолевать трудности, находить счастье и радость там, где другие не видят ничего, кроме проблем. А еще, и это, пожалуй, главное, способности быть благодарным Создателю за каждый прожитый день». Эти слова из авторского предисловия объясняют сюжетный стержень повествования. А зачин романа сразу повёл меня от страницы к странице. Язык-то добротный, надёжно «подслушанный», не раз повторенный автором, я и сам в детстве слышал его у местных, горношорских кержаков. «… Войдя, гости разом стянули картузы из своедельщины и низко поклонились. После чего, повернувшись к образам, сотворили молитву и перекрестились. — Доброго здравия на многие лета, матушка! Иван Федорович Кулагин, — прогудел он. — А это наши женихи: мои сыновья Харитон, Назар, и соседский — Устин. — Спаси Христос! Благодарствую, что столь споро откликнулись на приглашение! — Так ведь и у нас интерес имеется. Заметив, что Дарья с недоумением поглядывает на узкоглазого Устина, пояснил: — Мать у него китаянка. Но она прошла переправу. Сам Устин крещен по Правилу, с троекратным полным погружением. — Каков обличьем — не столь важно. Главное, чтоб в нашей вере был. Мне ближе крещеный китаец, чем некрещеный русский». А уж как автор о зверье пишет! Любит зверьё, и книги его о них – есть и такие - словно о людях. Но не стану пересказывать роман, хотя можно было бы – увлекательное и душеполезное чтение, скажу только, что мало где ещё узнаешь такие подробности о жизни старообрядцев, кажется, досконально изучил её Камиль Зиганшин. И ведь открылись же ему эти закрытые от мира люди! И ещё добавлю: поманила главного героя романа мечта о далёком Севере, Студёном море, оставил он свой староверческий монастырь и с сотоварищем отправился в долгую и опасную дорогу. А уж что в пути происходило – пусть читатель сам узнает. В названиях глав романа мелькает вся география путешествия главного героя: Усть-Янск, Индигирка, Колыма, Анюй, Чукотский хребет, бухта Лаврентия, Уэлен. Зримо! В некоторых местах и мне довелось бывать, узнаю их! Дочитав роман, я точно уверился, что будет написан ещё один: Зиганшин отправит своего героя на Аляску, где тот непременно встретится со своей дочерью и зятем, которые, уехав в Америку, наверняка поселились на берегу залива Кука в одном из староверческих посёлков. Недаром Камиль расспрашивал меня о моих поездках на Аляску, задавал наводящие вопросы, выпытывая подробности вплоть до слова «Буш», которым жители Аляски называют её дикие территории. Камиль Зиганшин является председателем «Фонда защиты диких животных» и председателем Малого жюри литературной премии «Душа природы». Он Заслуженный работник культуры России и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Президента России. Одним словом, человек видный. Он хорошо виден и в отечественной литературе. Его первое место в номинации «Проза» Арктической премии лично для меня не стало сенсацией. А вот его отказ от главного приза за победу в этой премии – участие в походе к Северному полюсу на ледоколе – удивил. И не только меня. Но причина оказалась уважительной: как раз на время арктического похода у Камиля уже были другие планы – скорректированные и согласованные, и он не мог подвести людей, отказавшись от этих планов. Поход на ледоколе достался Дмитрию Новикову, который стал лауреатом Арктической литературной премии за роман «Голомяное пламя». Когда я впервые увидел писателя Дмитрия Новикова, сразу понял, что передо мной главный герой его романа Григорий, уж очень они похожи: сильная грудь, широкие плечи, взлохмаченные, неприбранные волосы на голове, слегка курчавящаяся борода. И добрая, богатырская улыбка. Богатырь и бродяга-романтик! Так и оказалось! Писал он портрет Григория явно с себя. И живёт в Карелии на собственном хуторе. «Приезжай! Уединённо и красиво там у меня. Места хватит и любопытному глазу, и открытой душе!» Когда мы сидели в едином застолье в гостях у мурманских писателей, Дмитрий Коржов то и дело обращался к Новикову, сверяя с ним свои слова: «Дима, наверное, помнит», «Дмитрий подтвердит»… Да, Дмитрий Новиков был в Мурманске своим. И не мудрено, ведь он из соседней Карелии. Хороший гость и гостеприимный хозяин. Как я понял, он из тех, о ком говорят: «Жить – так уж жить, любить – так любить, стрелять – так стрелять!» С плеча! На полную! Он был счастлив получить путевку на Северный полюс из рук капитана ледокола. И я его понимаю. Его роман красив, как и необычен. Красив словом: любит Дмитрий Новиков поморскую говОрю, дорожит и русским литературным языком, и карельские словечки вставляет в текст. Необычен роман сюжетом. Сквозного сюжета и нет вроде, бросает автор читателя из 1970-х годов в начало 20 века, затем в 2003-й, а там и в 2005 год, а то и вовсе в середину 16 века в село Колу. Но постепенно понимаешь, что задумка эта хороша, она позволила автору поднять несколько пластов поморской истории и описать множество судеб человеческих. И пишет Новиков то от первого лица, то вообще от третьего: «Тебе ничего не оставалось, как стрелять волка. Ты убил его и спас пса. Медведь же потихоньку улизнул. Израненная собака не могла идти, и ты тащил ее на руках десять километров. Было тяжело, но ты не бросил ее, донес…» Судьбы людей выписаны в романе без прикрас и недомолвок, и даже Глас Третий из Кондака приведён полностью, а в нём обращение к силе божественной, спасительной: «… житейския молвы отринув, в молитвах и слезах и злостраданиих плоть свою изнуряя, добре подвизався противу невидимаго врага кознем и победив я, веселяся прешел еси к небесным чертогам…» Только к Богу и Святым уповать и остаётся многим героям Дмитрия Новикова, в том числе герою главному - Григорию. Но их держат любовь и вера. Без любви человеку нельзя, без веры тем более. Тогда и Память человек будет чтить, и Красоту воспримет, и восхитится ею. «Прямо перед ними, в успокоившемся море, на воде, на голубой поверхности ее лежала радуга. Не в небе, не вертикально, а плашмя, охватив залив, и дальше в открытое море; лежала она, яркая, чистая, словно из воды вышедшая, глубиной омытая, солнцем рожденная. — Чудо, чудо какое! — зашептал Гриша. — Смотрите, первый раз в жизни вижу, прямо на воде лежит! Голомяное пламя — дед говорил! Я не понимал раньше!!!» Позже, уже вернувшись из Мурманска на Камчатку, я наткнулся на небольшую рецензию, посвящённую роману «Голомяное пламя», нашего камчатского литературного обозревателя Николая Палубнева, и обрадовался тому, что роман и до нас дошёл, его читают, о нём говорят и пишут. Вот и Николай Палубнев прочитал, написал и привёл верную цитату из романа: «Изысканно объясняет автор название романа, как радугу в дали морской: «если голомя открылось, тут праздник душе. Не знаю, не могу понять: почему открытая голубая гладь эта так возбуждает все лучшие чувства в человеке. Тут тебе и радость свободы, и печаль за не могущих с тобой эту радость разделить, и мужество какое-то изначальное, когда лишь на Бога надежда да на свое неплошание. И сила в тебе просыпается неземная, водная такая сила, когда каждым гребком ты лодку свою посылаешь на десять метров вперед, и лишь спина твоя ловит стремительный этот бросок и напрягается вовремя, чтобы равновесие держать, а руки – те не знают ни удержу, ни предела. И сладость воздуха для легких твоих, которые только тут легкими становятся, а до того везде тяжелыми, натужными были». И закончу словами Николая Палубнева, земляка моего, умеющего правильно читать хорошие книги: «Главный герой Григорий на протяжении всего романа много раз близок к гибели, но спасается молитвой, чудом, счастливым случаем. Духовное родство с преподобным Варлаамом Керетским, который выступает здесь отдельным героем, становится основным инструментом спасения, надеждой на выживание, будущее поморского народа. Стоит отметить удивительное пиршество лирических отступлений, описаний природы, ее красот и богатств, занятий людей на Севере, воспоминаний детства героя. Все это подчинено художественной задаче произведения – приоткрыть правду о земле и любовь к краю оригинальными выразительными средствами. Находит писатель и очевидные истины с откровениями: «главное русское чувство – когда становится сладко, то вслед за этим сразу следует соль. Чтобы не пересластить, не ослабить дозволенностью, отрезвить. И как это чувство прививается с детства – эта постоянная готовность к соли после сладости. И как оно, совместное, все-таки острее, вкуснее простых чувств, что, разложенное на две составляющие, теряет гораздо, неизмеримо больше, чем просто поделенное пополам. Соль и сладость вместе, заодно, одно сразу вслед за другим, неразрывно. И знание, что так будет и бывает всегда – соль вслед за сладостью, – делает тебя гораздо, не в два, во много раз сильнее и быстрее, позволяет быть готовым, выживать».
4. Павел Кренёв Очень неторопливым, несуетным показался мне писатель Павел Кренёв. И голос у него медленный и тихий – прямо-таки шелест губной, раздумчивый. И полуоткрытые глаза с белесыми ресницами полны тихого улыбчивого лукавства. Всё это так походит на его героев из книги, за которую он приехал получать Арктическую премию, - «На севере, на Летнем берегу», на его поморских деревенских мужичков, да и на него самого, деревенского мальчишку, описанного здесь же: «Я старался расти степенным, сдержанным, как, допустим, мой отец». Так и представляешь себе, как садиться работать над своими книгами писатель Павел Кренёв. Неспеша наливает в кружку добротный, душистый чай, осторожно кладёт кусковой сахар, чтобы при этом не булькнуло и не капнуло на клеёнку, размешивает ложечкой, тихонечко позвякивая по стенкам кружки. Несёт чай к рабочему столу, шаркая по ковру домашними любимыми тапочками. Ставит кружку на привычное для руки место. Двигает стул, садится. Некоторое время думает, читая ранее написанное и осторожно прихлёбывая чай. И начинает писать далее… Думается мне, совсем недаром он в своей лауреатской книге вперёд поставил рассказ «Пунашки, воротча и госьба». Три не всякому читателю понятных слова. А зачем? Да чтоб сразу наткнуться именно на этот рассказ, прочитать, не отрываясь, понять и эти, и многие другие поморские деревенские словечки из местной говори, посмеяться и полюбить прозу писателя если не навсегда, то надолго. Запомнить её, чтобы искать другие книги Кренёва. Умеет он ладить и со словом – как литературным, так и местным, и с юморком, и с самоиронией. «Нет рассказчика и весельчака в деревне картинистее дедушки Павлина»! Так и представляешь, как дедушка Павлин хвост распускает. Вспоминаю, как трудно было мне, эксперту Арктической премии, ставить оценки текстам Камиля Зиганшина, Павла Кренёва и Дмитрия Новикова – кто лучше, кто первый, кто за ним. Все хороши, все достойны. А там уж как выстроилось, так выстроилось – демократическое рейтинговое голосование. Вереницей тянулись мурманские читатели к сидящему на стульчике Павлу Кренёву за автографом, протягивали книгу. Что он писал – не видел, но, думается, что-нибудь весёлое. Хотя за весёлым и по народному мудрым прошлым, описанным им в лауреатской книге, продолжением идёт ностальгическое и грустное из современности. Вот из того же рассказа: «Давно уже нету среди живых почти всех, кого я упомянул в этом рассказе. Да и на деревенском кладбище, куда они переселились, могилы не всех сразу и найдёшь. Кое у кого кресты упали, вросли в мох. Сквозь гнилое дерево проросла трава. Деревня потихоньку пустеет, пустеют дома, и за некоторыми могилками больше некому приглядывать. Скоро умрём и мы, и неизвестна долюшка и наших крестов да могил. Но пока ношу по земле бренные свои кости, не забуду их, добрых моих односельчан, не погаснет в сердце моём память о них, и любовь». Удивительна судьба самого писателя. Коренной помор, деревенский мальчишка, он окончил Ленинградское Суворовское училище, затем факультет журналистики в Ленинградском госуниверситете, а позже Высшие курсы КГБ и аспирантуру в Академии безопасности России, до полковника дослужился, преподавал в Академии безопасности, занимался с будущими разведчиками и контрразведчиками. Вот откуда его остросюжетные, увлекательные детективы! Но и это не всё. Работал Павел Григорьевич и полномочным представителем Президента России в родной Архангельской области. Не забывал свой Север. Да и не забывает, как видим. Детективы про шпионов – это хорошо, интересно, но жизнь народная, талантливо описанная, – лучше. Многогранен талант писателя Павла Кренёва. Он и в телевизионной журналистике отмечен – работал на ТВ в Архангельске. Ныне живёт в Москве. И много пишет. «Два помора движутся к своей цели – открытому, свободному ото льда морю…» Помор, писатель Павел Кренёв не только подошёл к своему «открытому и свободному» морю в литературе, но и вольно, размашисто, красиво плывёт в нём, оставляя за собой заметный след. Автор: Александр Смышляев |
||
- Подробности
- Автор: Тамара
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
Уже [1] в первой книге жившего в то время в Ленинграде тридцатилетнего писателя Павла Кренёва – «Река детства: повесть, рассказы, этюды, эссе» (Лениздат, 1986) местный диалект, язык деревенского детства прозаика – «поморская говоря» – естественно входила в прозаическую ткань произведений молодого автора, тогда и ныне с гордостью подчёркивающего своё поморское, деревенское происхождение. (Писатель, как мы уже говорили, родился в деревне Лопшеньга Приморского района Архангельской области).
Как известно, о поморской говоре писал ещё М. В. Ломоносов в черновых заметках о диалектах, особо выделяя родной «поморский» говор, подчёркивая, что он «несколько ближе к старому словенскому и великую часть России занял». А уже в начале ХХ века М. М. Пришвин, летом 1907 года путешествовавший по Русскому Северу, стал свидетелем независимости поморов, не желающих смешиваться с обширным населением нашей большой страны: «Почему же вы отделяете себя от России? – говорил я. – Вы тоже русские…» «Мы не от России дышим! Впереди вода, сзади – мох… Мы сами по себе…» – отвечали писателю поморы.
Авторитетный московский критик В. Г. Бондаренко, высоко оценивший творчество П. Г. Кренёва, так писал о земляках писателя: «Поморы – последние носители былинного, затерянного, считай, полностью древнейшего уклада Северной Руси, его самобытнейшего языка, который и не сказывался-то совсем, а выпевался в удивительной, былинной, разговорно-песенной вязи народных поморских сказительниц. Живущий доселе на берегах Белого моря народ каким-то чудом пронёс через все лихолетья, бесчеловечные опыты тех, кто душил и разрушал Россию «до основанья», хрустальные частицы подлинной народной культуры, языка и исторического опыта».
Это особенно ощутимо в прозе Кренёва: его рассказы и повести, написанные в 80‑е годы прошлого века, можно без всяких купюр переиздавать в постсоветское время, так как они лишены идеологической ангажированности. Новелла «Первый бал Пеструхи», первое художественное произведение, написанное ленинградским молодым журналистом в 1983 году, дала название новой книге писателя, выпущенной московским издательством в 2020 году. И сегодня она волнует читателей свежестью и оригинальностью точки зрения: мы видим лесной мир и охотника глазами молодой глухарки.
Высокую оценку поморской говоре и самому Павлу Кренёву дал известный писатель из младшего поколения «деревенщиков» В. Н. Крупин: «Архангелогородчина родила и сохранила свои величайшие словесные творения, этому помог чистейший язык – северо-русский говор, в котором звучание, написание и значение слиты в триединстве. Более того, именно на Русском Севере сохранились былины Киевского цикла. Здешние земли не были оглашены заезжими языками, сюда не дошли татаро-моголы, здесь не было крепостного права».
Можно выделить несколько тематических блоков, в обращении к которым прозаик чаще всего использует диалектизмы.
Это, во‑первых, лес, окружающие его поля, и море, с которыми столетиями была связана повседневная жизнь поморов. В экспозиции к первому тексту, озаглавленному «Этюды акварелью», в пейзажной зарисовке читаем: «В большие шторма, когда вода соревновалась в неистовстве с гранитными валунами бакланов, я долгие часы проводил на берегу…». К слову «баклан» даётся сноска – «местное название каменистой отмели». В «Словаре поморских выражений и слов», завершающем книгу «Первый бал Пеструхи», многие связанные с морем понятия уточняются автором: «Бакланы – каменные подводные и надводные валуны в море»; «Взводни» – штормовые волны на отмелях», «голомень» – морская даль, «залудье» – часть морского пространства, располагающаяся между берегом и коргой». «Корга» – читаем в «Кратком словаре поморского языка» – «подводная каменная мель». «Тоня» – место на море, где постоянно ловят рыбу, в «Кратком словаре…» можно уточнить: «Тоня – рыболовный участок для ловли ставным нёводом или другими снастями». А значит, выделяется и специальная – «сёмужья тоня» – место в море, где ловится сёмга. «Заплёсток» – часть морского берега, омываемая волной. О начинающемся шторме поморы скажут: «запотягивалвзводенёк». Удивительным ласковым словом называют поморы такое опасное морское явление, как шторм: они словно заклинают его не забирать человеческих жертв: «погодушка». Что-то угрожающее спрятано в самом звучании слов «ропаки» – торчащие над поверхностью льда ледяные глыбы. В «Кратком словаре…» читаем: «Ропак – вертикально стоящая льдина, нагромождение льда». Или шуга – мелкий колотый лёд. В «Кратком словаре…»: «Шуга – лёд, плавающий в реке до летостава осенью».
А в историческом эссе «По волнам памяти» нам открывается живописная картинка бурного Белого моря: «Вокруг по чёрным гранитным коргамУнских рогов хлещут белые россыпи, несётся по ветру солёная влажная пыль…Корга – каменистая отмель, идущая обычно вдоль берега» – поясняет прозаик в сноске на той же странице. В сборнике рассказов 2020 года это понятие прокомментировано чуть иначе: «корга – морская каменная россыпь, тянущаяся вдоль берега». Ещё один связанный с морем диалектизм – «лудистыепроливины» автор поясняет как «каменистые проливы». Интересные и производные от него – например, «залудье» – часть морского пространства, располагающаяся между берегом и коргой.
В повести «Сваня» мы знакомимся ещё с одним морским понятием – «лахта – залив (местное)», поясняет прозаик, рисуя очередной поморский пейзаж: «Он прошёл почти уже весь берег, впереди открылось ровное место: покатый луг с жухлой, посеребрённой снегом травой, дальше маленькая лахта, тоже открытая отсюда, с гнилым, чахлым берегом». В «Кратком словаре…» это слово имеет три значения: «Лахта – маленький залив на море… 2) Болото вокруг озера. 3) Болото, прилежащее к озеру».
Известно: у северных народов особенно богат синонимический ряд, описывающий разные варианты снега и всё, что с ним связано. Поморы здесь не исключение: снежный занос они называют «замятью», «черновинами» чёрные проталины на весеннем снегу, «набродами» – следы птиц и зверей на снегу, «шалагами» – скользящие по снегу сани, «утренником» – утренний мороз.
Целая волнующая поэма – поморские ветра в описании П. Г. Кренёва: в повести «Беляк и Пятнышко» читаем: «…зимней холодной чёрной ночью огонь раздувается прилетающим с полуночных краёв северным холодным ветерком «Сиверко», который шквальной своей рванью расплёскивает пламя в разные стороны». «Полуночник – северо-восточный ветер. Шелонник – юго-западный ветер на Белом море». А вот как описан «Запад – западный ветер» в рассказе писателя «В отпуске»: «Как и в детстве, на море пестрела рябь, и нехолодный «запад» гнал её от берега, выдувал вдали «беляши». Рассказом о полуночнике открывается повесть «Сваня»: «И вот по ночам сначала украдкой, но затем всё настойчивее запосвистывали, запогуливали над землёй шалые полуночники – северные ветры, повеяли на зелень мертвенным дыханием, просквозили леса колючим леденящим дождём». В рассказе «В сентябре на диком берегу» читаем: «Пока мы рыбачили, пал отлив, да ещё горный ветер помог отогнать от берега воду». Автор поясняет: «Горный ветер – ветер, дующий с берега». В «Кратком словаре…» составитель даёт немного другой вариант этого слова: «Горьной – материковый, береговой ветер». Человеку, желающему спрятаться от ветра, нужно искать тихое место, защищённое от его свирепых порывов: поморы называют его «заветерье». В «Кратком словаре…»: «Заветёрь – защищённая от ветра бухта, залив».
Автор с заметным удовольствием вспоминает поморские названия рыболовных снастей, самих судов и их частей: «На Унских рогах нашли свой конец многие поморские судёнышки: карбасы, лодьи, кочи». «Карбас – беломорская деревянная самодельная лодка». «Коч – палубное двухмачтовое мореходное судно». «Дорка» – карбас, оснащённый мотором. В «Кратком словаре…»: «Дора – большая моторная лодка для буксировки плавающих брёвен». Озорное, выразительное название, словно одушевляя механизм, дали поморы новинке ХХ века – лодочному мотору с ножным запуском – «топнога». Даже такое опасное изобретение цивилизации, как ружьё, поморы словно приручали и мягко вписывали в свою независимую реальность: «тозовкой» называли здесь охотники дробовое ружьё, образовывая это забавное прозвище от фабричной марки «ТОЗ» – Тульский оружейный завод.
Или: «С носового коржка к воде свесился рыбак и устало всматривается в глубь…». Внизу страницы даётся разъяснение (с пояснением в скобках – «Здесь и далее примечания автора»): «Коржок – часть носового киля».«Морда» – вид рыболовной снасти». «Рюжа – вид рыболовной снасти»: «Напротив его дома стоит рюжа». В рассказах Кренёва встречаются «вешала» – приспособления для просушки рыбацких снастей, «воротный кол» – шест, используемый как рычаг при поднятии лодки из воды. «Сети натодельные» – специально предназначенные для каких-то целей герои писателя легко отличат от «промёта» – связанных друг за другом рыболовных сетей. Для ловли тюленей мудрые поморы придумали специальную снасть – «юнду». В «Кратком словаре…»: «Юнда – длинный ряд из связанных вместе сетей». Для разделывания тушей тюленей специальный «шкерочный нож». В «Кратком словаре…»: «Шкерить – разделывать рыбу». А для обработки кожи животных небольшого размера приспособят «пяльцы».
Уже в первой книге молодой писатель не ограничивается воспоминаниями детства и идиллическими картинками поморского быта. В тот период Кренёв ещё не начал работу в закрытых архивах, которая обернётся циклом острых и оригинальных исторических очерков, но история родного Поморья, со всеми её конфликтами, прозаика уже волнует. Свидетельство этому – крошечная историческая зарисовка в эссе «По волнам памяти»: «Вот отсюда, с дальнего рейда (ближе не подойти: залив перед Пушлахтой мелкий и лудистый), пушки английских военных кораблей выплёвывали в сторону поморской деревушки тяжёлые снаряды», а внизу страницы пояснение: «Луда – мелкий морской камень». Несколько иное пояснение этому слову даёт «Краткий словарь…»: «Луда – длинная каменистая мель с множеством островков, идущая у берега моря».
Крестьянский бытийный поморский «лад» (не избежать нам здесь точного слова влюблённого в крестьянский быт В. И. Белова) подарил свои названия и самобытным традициям построения просторных северных домов («выстроенный «в лапу» – способ укладки брёвен при строительстве деревянного дома; «горбыль» – овальная доска, образующаяся при распиле ствола), и многим предметам сельского обихода: например, «палагушки – вместительная посудная утварь»;пестерь – «плетёная из бересты заплечная корзинка». То же читаем в «Кратком словаре..»: «…пестерь – берестяной заплечный короб с крышкой».
Правда, поморы использовали его не совсем привычно для других областей России – для переноса рыбы. Прозаик свидетельствует: «Родичи мои наваливали сорогой полные пестери и несли их домой, кряхтя от тяжести на зыбких и вязких мхах, на размытых талой водой кочковатых летниках, с которых в теневых густолесинных местах ещё не сошёл весь снег».
Кренёв знакомит нас с рыболовными традициями поморов: «Мои предки ловили рыбу так: они приходили ранней весной на своё озеро (по неписанным законам у нас в деревне почти у каждого рода своё озеро) и ставили «Морды» в протоки и ручьи, соединяющие соседние озёра».
Почти все рыбы, водившиеся в соседних море и реке, получили у поморов оригинальные названия. «Может, клюнет страшный, как морской чёрт, и колючий ревяк».Кренёв поясняет: «Ревяк – морской бычок». «В то время по протокам валом валила сорожка…».Сорожкой поморы называли плотву. А «онежан (жителей Онежского берега Белого моря) поморские озорники дразнили «корюшатниками» – якобы им, «кроме корюшки, никто и не клюёт».
В том же очерке, чуть дальше читаем: «В самый распоследний безнадёжный уж момент вы выходите всё-таки на старые суземные пожни, поросшие буйным молодым березняком…». Автор поясняет: «Суземные пожни – дальние лесные сенокосные луга». Или в раннем рассказе «Люди рассудят»: «Рада – болотистое место, поросшее низким редким лесом». Слово «пожня» мы не раз встретим в прозе Кренёва. Так, центральной части очерка в описании лесного пейзажа читаем: «Но вот лес распахнулся, и к вам выплывает прямо из гущи старая, в молодых берёзках пожня». Автор поясняет: «Пожня – лесной луг», лесные сенокосные угодья. В «Кратком словаре…» даётся то же значение: «Пожня – сенокосный луг».
Внимательные к родному лесу поморы подарили окружающему их древесному миру множество свежих, оригинальных названий: «кокорник» – кривой подлесок, «комель» – нижняя часть дерева с корневищем, «корёжистый» – насыщенный корягами, «лапинья» – ветки ели, «слега» – длинное тонкое бревно. «Кокорина – коряга», более точно объясняет это слово автор в повести «Сваня»: «Кокорина – здесь: выступающее из земли корневище дерева». В «Кратком словаре…» читаем: «Кокора – нижняя часть ствола дерева… с корнем».
Непросто пробираться поморскому охотнику через «канабристые буреломы» – труднодоступные лесные места, поросшие густым низкорослым кустарником. В «Кратком словаре…»: «Канабра – багульнично-брусничные места».
Отважные поморские мальчишки и в одиннадцать лет готовы провести ночь в лесной гуще вдвоём с собакой, чтобы только на следующий день вернуться в родную деревню через безопасный «прилесок» – территорию, прилегающую к лесу. А в лесу старого помора поджидает… «кочерыга» – автор поясняется в сноске: «объект в лесу, препятствующий свободному передвижению», а также «подрадья» – влажные места.
При описании луговых красот появляется у прозаика и ещё одно диалектное слово – «кулига» – «ответвления от сенокосных лугов»: «Прямо тут начинается и убегает далеко вдаль широкое, поросшее травой поле с разбегающимися в бока кулигами». То же значение находим в «Кратком словаре…»: «Кулига – 1) росчись для сенокоса в лесу. 2) Клин луга, вдающийся в лес». Своё название дали поморы и высокой траве – «метляк», а стог сена здесь называют «зарод».
Богатство поморской говори писателя вызвало восхищённый отзыв классика В. Н. Крупина: «…необычайное богатство местных слов, синонимических рядов, обозначающих мельчайшие оттенки человеческих взаимоотношений, явлений природы. В словарном запасе Севера нет только похабщины, бранных слов, чем омерзилась нынешняя словесность. Чистота речи идёт от чистоты нравов. Чистота нравов – следствие веры в Бога».
Кренёв словно лукаво возражает Владимиру Николаевичу в одной из новелл, показывая, как сорное словечко прицепилось, судя по всему, во время службы в армии, к одному из деревенских мужиков. Но, смягчённое поморскойговорей, оно прихотливо преобразилось в загадочное словосочетание, над тайным смыслом которого не задумывается никто из земляков говоруна: «У Николая Семёновича была странная, непонятная никому поговорка: «ёштвоюлять». Он применял её повсеместно, при любом разговоре и в любой обстановке, хоть за чаем дома, хоть на людях. За глаза его кое-то так и звал: «Коля ёштвоюлять»…».
Свои названия получали у поморов даже лесные тропинки. В том же очерке читаем: «Утром я ушёл домой по летнику, который совсем слабо, всё же ещё выделялся среди жёлтой травы». Напомним пояснение автора в сноске: «Летник – тропа в лесу, которой пользуются только летом». Луговые цветы у поморов также называются непривычно: «Лишь изредка кто-нибудь нарвёт букетик полёвок…». В центральной России полёвками называют мышей, мелких грызунов, поэтому автор поясняет: «Полёвки – здесь – полевые цветы». Ягоду голубики поморы называют «гоноболь», а стелящийся по земле кустарник – «стланником».
В каких-то случаях любимые диалектизмы оставляются автором без пояснений: «На деревенском кладбище, что стоит на угоре средь высоких молчаливых сосен, поодаль ото всех могил, около самой изгороди…». В 2020 году это слово расшифровано в «Словаре поморских слов и выражений»: «Угор – холм, гора». В «Кратком словаре…» то же: «Угор – холм, бугор».
Во-вторых, это названия оригинальных предметов поморского быта, очевидно, нехарактерных для крестьян из других областей. Пример из того же очерка: «В редкие минуты отдыха, в обеденные перекуры, косари – мужики и бабы – собирались тут, чаёвничали у лавы». Автор поясняет: «Лава – специально оборудованное место рядом с избой для приёма пищи». У каждой части просторных поморских домов и пристроек – своё продуманное назначение: так, «поветь» – это хозяйственная пристройка к деревенскому дому.
Да и еда у поморов называется по-своему: жаркое, к примеру, они зовут «жарёхой».
И со временем отношения у поморов тоже свои, личные: вместо традиционного «в этом году» они говорят «сейгод», вместо «сейчас» – «чичас», вместо «когда-то» скажут «коегодни». А поморы-рыбаки выделяют особый сезон в году – «сёмужью путину» – время ловли сёмги.
В-третьих, это речь деревенских персонажей, общающихся между собой на поморской говоре: «Девкой шла я из соседней деревни… Гляжу – стоит кол дороги мужичонко, маленький, сивой, в бахилах да в фуфайчонке, смотрит, окаянный, на меня и улыбится буде, пальчем манит. Да как повёл, батюшко-о! Перекреститца хочу – руки не могу поднять, остановитца хочу, ноги сами шлепат. От беда, ох темнеченьки-и! Ну и заводил меня по лесу, окаянной. Вернул взад. Не путь значеть был. От беда, батюшки-светы-ы!».
На поморской говоре беседуют в деревне не только старики, но и дети, и взрослые мужчины. «Зараза, – жалится он (Володька – прим. Л.У.З., С.У.) мужикам, – знат, когда вода стыльше!».
Так, маленький внук спрашивает бабушку: «Баба, а зачем он пугат?». Мальчик использует диалектную форму глагола, как и бабушка, отвечающая ему: «Хто его, Паша, знат. Дунька Зьемихавон почему седа?» – «Не знай, баба». – «Девкойпобегла в лес мху драть к Частым озеркам, а он, окаянной, ей дедком прикинулся ейным, Логином. Дак увёл, змей, ажно до Самосушного. Ну не проклятушшой, а? Две дни деву искали. Напужал всю да зашшекотал. Белой-то волос и пробил. Не дай ты осподивстренутьиде!». Даже в советское время прозаик не собирался скрывать многовековую приверженность поморов православной вере (неслучайное присловье у бабушки – «осподи» усечённое «Господи», естественный защитный жест – «перекреститца»). А в повести «Сваня» Герасим уговаривает соседку: «Погоди, Клавушка,… Христа ради, не зря же я тебя позвал, ей-богу…». Кроме того, заметим, самым распространённым ругательством в этом очерке оказывается слово «змей»: «Тише ты, змей, распугаешь всё…», очевидно, имеющий библейские корни «змей-искуситель». В повести «Сваня» этот образ в качестве домашнего ругательства возникает несколько раз: «Лучше бы ты пропил его, змей, чем вот так кокнуть!» – уговаривает жена Зинаида мужа Герасима, неугомонного деревенского изобретателя. «Чего упрямисся-то, змей…» – уговаривает Герасим спасаемого им раненного лебедя. В повести «И на земли мир…» Пелагея, «выкинувшая» на сенокосе ребёнка, жалуется на жестокого бригадира: «Говорила я ему, змееватику, куды ты меня гонишь, несу ведь я…».
А в рассказе «Королевская охота», написанном Кренёвым в 1986 году, читаем про появление нехорошего человека: «Леший несёт». Не забывает писатель и в атеистическое время (на дворе – 1986 год) напомнить о благородном поступке молодого царя Петра Первого: «прожил в Пертоминске четыре дня, чем навёл переполох в тихой монашеской обители несусветный. В знак своего спасения он собственноручно срубил и вкопал на берегу Унской губы огромный крест. Написал на нём: «Сей крест сделал шкипер Пётр в лето Христово 1691».
С православной верой с молодых лет у Павла Кренёва, внука священника Васильевского, свои отношения. Недаром в постсоветское время он построит на свои средства в родной деревне Лопшеньга просторный каменный храм во имя Петра и Павла на месте разорённой большевиками церкви.
Кренёв точно фиксирует фонетические особенности поморской говори.
Особое внимание прозаик уделяет глагольным формам, неизменно точно передавая их фонетическое поморское обличье: «Чего зыриссе, Пашко… Помоги лучше дедку сено до лодки снесть». В повести «Сваня» читаем: «Зина, выдь!… Ну что, не обшалелась ещё?… наездисся…», «А ты кочевряжисся». В новелле «Художник» встречаем глаголы: «умильнуть» – автор поясняет: «убежать, удрать», «пехаичче – стремиться», «дрыгать – ходить, бегать».Популярен у поморов и глагол «блазнится» – видится, кажется, выразительные даже на орфоэпическом уровне глаголы «стрешшало» – раздался треск, «выцелил» – прицелился, «шабаршила» – постукивала, «шмальнуть «пшёнкой» – выстрелить мелкой дробью.
Не менее интересны и оригинальны прилагательные, входящие в состав поморской говори. Сочувствующая раненному лебедю деревенская женщина называет его на местном языке «баженым» – беднягой, бедолагой: «Вон как переваливается баженый». Пожилой, но полный жизненной энергии человек сам себя окрестит «кряжистым» – сильным, жилистым, а разухабистого, весёлого парня поморы назовут «хлестатым».
Мудрым напутствием и сегодняшним молодым людям звучат афористичные слова матушки героя рассказа «Ало, Федька!»: «Попал на море в шторм, не подставляй борт, держись встречь волны!». А завершил первую книгу начинающий прозаик ещё одним поморским присловьем: «Солнце красно к вечеру – моряку бояться нечего».
Нельзя не согласиться с петербургским поэтом и критиком В. Ефимовской: «Напевная, поэтичная разговорная речь героев, обладающая образными местными лингвистическими особенностями, выводит прозу Павла Кренёва на поэтический уровень».
Обратим внимание на заголовки в книгах писателя. Если очерк в первой книге озаглавлен «Этюды акварелью» – в заголовке использованы сразу два слова иностранного происхождения (этюд, акварель), то в дальнейшем Кренёв всё чаще будет выносить в заглавие диалектное словечко («Шелоник», «Пунашки, воротча и госьба», «Душистый клевер Чёрной Шалги») или деревенское прозвище зверя («Белоушко», «Беспалый», «Беляк и Пятнышко»). По предположению В. Ефимовской, «… загадочное название раскрывается не только сюжетом, но и через систему художественных образов, строящихся часто на сочетании слов, выражающих мировоззрение персонажей и самого автора».
Названия зверей и птиц в поморском словаре заслуживают отдельного разговора: «вязким гончаком» назовут поморы гончую собаку, которая не отстаёт от дичи, «потяжкой» – осторожный подход собаки к дичи. «Ушкуем» – медведя, а северную птичку пуночку «пунашкой».
Скрытой символики полна и фамилия писателя, точнее, его псевдоним, вынужденно взятый им по служебным обстоятельствам. В. В. Личутин, долгие годы друживший с прозаиком, напоминает: «Он не спрятался за это прозвище, но как бы приоткрыл свой упрямый, непростой норов, внешне вроде бы податливый и мягкий, ибо Кренёвы – родовая фамилия по боковой ветви. (Само слово «крень» распространено по берегам Белого моря, обозначает свилеватое, жиловатое, косослойное упругое дерево с вязкой болонью, плохо поддающееся топору и гнили, идёт на сваи, «стулцы» под избы, на карбаса и лодьи)».
Именно контраст между свободным использованием заимствованной лексики (например, название эссе «По волнам памяти» заставляет вспомнить поэзию средневековых студентов-вагантов, введённую в те годы в обиход молодёжи в переводе с латыни Л. Гинзбурга, положенную на музыку Д. Тухмановым) и поморской говори – один из оригинальных приёмов построения самобытной прозы писателя. Кренёв не становится «языковым пуританином», закрытым к западным влияниям славянофилом-деревенщиком, не торопится идти по пути создания словаря «языкового расширения», как советовал А. И. Солженицын, и избегать любых заимствований, заменяя их славянизмами.
Неслучайно доктор филологических наук А. Ю. Большакова, анализируя рассказ о любви П. Г. Кренёва «Маргарита Глебовна» стала сопоставлять его не с отечественной прозой, а с романом немецкого писателя Эриха Мария Ремарка «Триумфальная арка», кстати, неслучайно упомянутого в этом произведении писателя-помора. А охотник Герасим из повести «Сваня» для красного словца, уговаривая помочь медсестру-соседку, вспоминает европейскую знаменитость – «клятву Гиппократа», хоть и путает великого врача с поджигателем Геростратом.
В. Ефимовская так прокомментировала языковые особенности прозы писателя: «Использованием живого северного говора, употреблением старинных, можно сказать, «антикварных» речевых оборотов, сохранившихся по меркам нашей всё сокрушающей цивилизации в отличном состоянии, писатель добивается не только убедительности, образной целостности, но соединения разных времён и ощущения вневременности». Именно поморская говоря, по её мнению, придаёт особое обаяние, аромат подлинности, непридуманности, поэтичности гибкой, выразительной и музыкальной прозе писателя, богатой живописными пейзажами, психологически точно выписанными характерами, лирической исповедальной интонацией: «Напевная, поэтичная разговорная речь героев, обладающая образными местными лингвистическими особенностями, выводит прозу Павла Кренёва на поэтический уровень».
Об особой музыкальности прозы писателя пишет и другой поморский классик – В. В. Личутин: «Читаю рассказы Павла Кренёва, и невольно слышу его мягкий, слегка вкрадчивый, баюкающий, согревающий душу сокровенный голос, будто сам писатель возле».
Исследователи склонны видеть в особенностях прозы писателя ещё один – символический уровень: «Не подчиняется строгим нормам язык героев рассказов Павла Кренёва, как не подчиняются этикетным условностям отношения деревенских жителей, которые по жизни не кажутся ни смиренными, ни сдержанными».
Московский критик Н. И. Дорошенко напомнил: В. Г. Распутин «однажды с горечью сказал, что уже не появятся у нас писатели, владеющие русским языком в той полной мере, в какой им владел русский человек, ещё не повреждённый модифицированным языковым продуктом, производимым современной медийной индустрией». В этом плане проза Павла Кренёва – убедительное доказательство живительной силы поморской говори, естественности её возвращения в литературу ХХI века. Ещё раз процитируем свидетельство Дорошенко, так оценившего языковые особенности прозы поморского писателя: «И вся эта богатейшая языковая живопись у писателя не выглядит, как кокошник под музейным стеклом… стихией живого русского языка вливается в русло современной русской литературы Павел Кренёв».
«Неповторимым явлением» считал язык прозы писателя вдумчивый читатель, капитан первого ранга в отставке В. Н. Баринов: «Он помогает раскрыть тайны авторского замысла, широту картины поморского бытия, глубину проникновения в жизнь поморов, в особенности их быта, психологию людей, кровно связанных с родной природой, морем-океаном, с историей. Автор повести говорит на самобытном, чрезвычайно выразительном художественном языке, представляет свежую, ещё не «вспаханную» другими писателями целину жизни российских поморов».
Всё это позволило известному московскому литературному критику Л. А. Аннинскому назвать прозу Павла Кренёва«Важнейшим откровением нашего духовного достояния».
Считается: поморская говоря способна создать дополнительные сложности переводчикам. Действительно, когда над текстами Кренёва работали болгарский литературовед Ивайло Петров (перевёл повести «Девятый» и «Белоушко»), черногорский поэт ВойиславКараджич, переводивший, сборник «Поморские истории» и одна из авторов этой статьи, переводившая вместе со студентами новеллу писателя «Королевская охота» на турецкий, – все они в разное время обращались к писателю с просьбой прокомментировать непонятные диалектные слова – поморскую говорю.
Польская поэтесса МалгожатаМархлевска (она перевела на родной язык повесть писателя «Беляк и пятнышко» и рассказ «Маргарита Глебовна») во время Горьковского фестиваля в Нижнем Новгороде, беседуя с французским прозаиком Тьерри Мариньяком (он перевёл повесть Кренёва «Девятый»), поделилась опытом: для передачи поморской говори она использовала в речи персонажей польский диалект – кашубский говор.
…В 1957 году любимый писатель П. Г. Кренёва М. А. Шолохов, также с удовольствием насыщавший свою прозу донскими диалектизмами, написал статью «Сокровищница народной мудрости» – вступление к «Пословицам и поговоркам русского народа» В. И. Даля, подчеркнув: «Важнейшее богатство народа – его язык. Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта». П. К. Кренёв, вслед за М. А. Шолоховым, героем исторического эссе писателя «Я свидетельствую…», и В. М. Шукшиным (неслучайно упомянутом в раннем рассказе писателя «Алё, Федька!»), сохраняет эти традиции, обогащая и преумножая знания читателей о великом и могучем русском языке.
Кроме того, даже краткий анализ используемой писателем поморской говори показывает: рассказы и повести П. Г. Кренёва создают в современной прозе своеобразную «поморскую энциклопедию», открывающую читателям уникальную бытовую и духовную культуру поморов во всей её самобытности.
@Звонарева Лола Уткировна
[1]357 В подготовке этого текста участвовала доктор филологических наук, профессор, переводчик прозы П. Кренёва на турецкий язык СевингУцгюль.
#ЗвонареваЛола #КреневПавел #Поморская_говоря #ПисательКренев #О_Севере_о_людях
- Подробности
- Автор: Тамара
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
Окна его родного дома выходили на Белое море: оно каждый день было разным, и смотреть на него никогда не надоедало. Пройдут годы, и он опишет его, тоскуя и скучая в Ленинграде, вновь и вновь возвращаясь душой и сердцем в места своего босоногого, хулиганского детства. В его просторном деревянном доме ещё в начале прошлого века успел побывать Михаил Пришвин, а на морском берегу он, мальчишкой, не раз видел в задумчивости бродящим невысокого коренастого человека с проницательным внимательным взглядом тёмных глаз – писателя Юрия Казакова, призывавшего в последней книге – «Поедемте в Лопшеньгу». Лопшеньга – ласковое название его родной деревни. Надо было покинуть её четырнадцатилетним, окончить в Ленинграде Суворовское училище, факультет журналистики Ленинградского университета, переехать в Москву, поработать в администрации Президента РФ, чтобы понять: Лопшеньга – самое главное место в мире.
И 17 из 21 книги писателя Павла Кренёва будут посвящены именно ей – этой удивительной поморской деревне на Летнем берегу Белого моря, где прошло его детство, где доводилось спать на деревянном полу в обнимку с любимым лохматым псом Мишкой. С ним же ночевать в лесу одиннадцатилетним пацанёнком, вздрагивая от каждого шороха в кустах. Такое испытание проходил каждый подросток в Лопшеньге, чтобы мальчишки считали его ровней, выросшим из коротких штанишек сопливой деревенской малышни.
«Мужской поступок» (рассказ о первой в жизни ночёвке в лесу), повесть «Добрые люди» (об отчаянной по безрассудности поездке деревенского мальчика, не знающего английского, в Ленинград – сдавать экзамены в Суворовское училище, и неожиданно для всех – и для себя тоже – туда поступившего), «Матрос со «Стремительного» – о столь же отважном самовольном путешествии на военный корабль. Спустя годы события деревенского детства укрупнялись, обретали символическое и судьбоносное значение. Так прозаик Павел Кренёв стал зачинателем новой волны деревенской прозы в отечественной литературе.
Но деревенским прошлым с его незабываемой«поморской говорей» не ограничивается литературная вселенная писателя. Внук священника и сын фронтовика, профессиональный военный, он ощущал творческой потребностью и фамильным долгом необходимость написать, осмыслить по-своему прошедшую войну. И появилась посвящённая погибшему на войне деду повесть «Огневой рубеж сержанта Батагова», и прошедшая война проступала болью и памятью в новеллах, выходивших из-под пера писателя (он по-прежнему предпочитает писать ручкой) уже в ХХI веке.
Органичной составляющей его прозы стал православный взгляд на всё, происходящее с героями. Соборность и пасхальность, о которых как о важнейшей составляющей православного менталитета и отечественной классики пишет профессор Иван Есаулов, не как отвлечённые термины, а как живая повседневность. В прозе Павла Кренёва к праведной старушке ночью приходит Николай Угодник («Поздней осенью, на Покровскую»), а замерзающая на льдине шестнадцатилетняя школьница-пионерка, вспоминая маму, начинает беседовать с неведомым ей Богом (повесть «Беляк и Пятнышко»). Это – в литературе, а в реальности уже не писатель Павел Кренёв, а сотрудник высоких правительственных структур Павел Григорьевич Поздеев счёл своим долгом построить на свои средства в родной деревне храм во имя святых Петра и Павла.
«Бог есть Любовь…» – гласит писание. И нередко в центре новелл писателя, более того, энергией, движущей сюжет повествования становится именно Любовь. В разные годы написаны Павлом Кренёвым рассказы «Беляк и Пятнышко», «Маргарита Глебовна», «Звёздочкая моя ясная» – три увлекательных новеллы о том, как настоящая любовь меняет жизнь человека. В первом случае именно она спасает жизнь пятнадцатилетней девушке, вынужденной участвовать в тяжелейшем взрослом промысле – добыче во время войны тюленьего мяса, спасавшего от голода жителей Архангельска, Северодвинска и Ленинграда. Забытая рабочей бригадой на льдине, девочка чудом выживает благодаря любви детёнышей тюленихи к погибшей от человечьих рук мамаше, в шкуру которой завернулась замерзающая девушка, и влюблённости в неё помощника капитана. «Маргарита Глебовна» повествует о внезапно возникшем остром любовном чувстве между простым деревенским парнем-маячником (электриком по маякам), обманутым прежними возлюбленными, и горбатой девушкой-библиотекаршей, оказавшейся после окончания техникума в приморской деревне. Новелла чудом не завершается трагически: спасают от верной смерти в море ожидающую ребёнка женщину любимый пёс и любящий друг. Самому важному и самому сложному в жизни каждого человека посвящена новелла «Звёздочка моя ясная» – первой любви, которую нельзя предавать, и первой женщине, общение с которой определяет интимное будущее молодого мужчины. Новелла написана целомудренно, романтично, полна скрытой глубокой грусти о прошедшей юности, о её бедах и радостях и легко найдёт отзыв в душе читателя любого поколения.
Наверное, только деревенский мальчик, для которого главным в отрочестве оставались охота и рыбалка, может так остро чувствовать закрытый для горожан мир животных и птиц: любовные радости романтичной глухарки (новелла «Первый бал Пеструхи»), злоключения гордого, памятливого волка (повесть «Белоушко»), бедовые выходки увлечённого добычей медведя (новелла «Беспалый»), тоску безутешной рыси, потерявшей любимого детёныша (рассказ «Успокойсь»). «Первый бал Пеструхи», «Беспалый», «Успокойсь…» и «Белоушко» – новеллы из жизни диких птиц и животных, написанные на уровне лучших новелл в истории мировой литературы («Белый клык» Джека Лондона, «Рассказы о животных» Сентона-Томпсона, «Каштанка» Антона Чехова). «Первый бал Пеструхи» – рассказ о жизни в дикой природе молоденькой глухарки, потерявшей сначала родителей, братьев и сестёр, затем дружка – глухаря, не успевшего стать отцом её деток, и, наконец, ценой своей жизни предупредившей нового кавалера о грозящей ему смертельной опасности. Увидев лесной мир и людей глазами юной глухарки, нельзя не возмутиться бессмысленной жестокостью людей, постоянно разрушающих гармоничное и самодостаточное лесное существование красивых и сильных птиц. На уровне лучших рассказов Василия Шукшина написана полная скрытого юмора новелла «Беспалый», показывающая, как медведь оказывается хитрее и умнее напрасно пытающихся выследить его ленивых и пьющих деревенских жителей. Лирический финал неожиданно венчает остросюжетную новеллу, и читатели понимают: они, как и автор, на стороне умного и сильного медведя – этакого чуда природы, и им совсем не хочется, чтобы его поймали и убили. Главная героиня новеллы «Успокойсь…» – молодая рысь, которую материнский инстинкт заставляет идти по следам убитого человеком детёныша и надеяться найти его живым. При этом накал страстей таков, что заставляет бывалого рыбака и охотника покинуть избушку и вернуться ни с чем в деревню. Победа – за матерью-рысью, не желающей поверить в смерть любимого малыша. Повесть «Белоушко» помогает нам взглянуть на мир глазами волка, жизнь которому не раз спасали добрые люди, но живущего на свободе, в диком лесу, где ему суждено обрести любимую и стать вожаком. Автор, искренне любящий Белоушко, заставляет и нас, читателей, переживать за своего четвероногого героя, постоянно сталкивающегося с непредвиденными опасностями.
Писатель, дебютировавший в середине 80‑х годов прошлого века и нередко писавший так, как это делала Анна Андреевна Ахматова, десятилетиями, несмотря на все репрессии, по сути, не замечавшей советской власти и её идеологических запретов, в постсоветское время не мог не откликнуться на резкое изменение всех этических норм, коснувшихся самых закрытых областей человеческой жизни – любовного и семейного миров. Неожиданно для читателей прозаик откликнулся на эти мощные перемены в жанре, казалось бы, присущем, в первую очередь, массовой культуре. Но сегодня, когда эту повесть – «Девятый» – перевели и издали отдельной книгой в Болгарии (в переводе профессора, литературоведа Ивайло Петрова) и во Франции (в переводе известного прозаика Тьерри Мариньяка), мы понимаем: психологический детектив «Девятый», уже названием отсылающий нас к знаменитой новелле Бориса Лавренёва «Сорок первый», – текст, принадлежащий настоящей литературе, ну уж никак не массовой культуре. Действие в нём разворачивается в одной из молодых республик, где столкнулись политические интересы разных стран. Главные герои – русский офицер-снайпер, скрывающий свою подлинную специализацию и полученное от руководства задание, и молодая литовская женщина-снайпер, прикидывающаяся торговкой на рынке. Жизнь случайно сводит их, по-настоящему полюбивших друг друга, но в процессе исполнения опасных для жизни поручений вышестоящего начальства оказывается: у одного из них нет шансов остаться в живых. Но самое страшное и обидное – погибнуть от руки любящего тебя человека, не догадывающегося о твоей истинной профессии.
Нам, заинтересованным читателям, понятно желание человека, влюблённого в великую историю великой страны, очистить отечественную историю от политических мифов и облагороженных многолетней идеологизированной ложью монстров. Оно обернулась циклом острых исторических очерков (многие из них были опубликованы в газетах «Труд», «Слово», журнале «На русских просторах»), основанных на архивных документах, обнаруженных во время работы над диссертацией.
Юбилейный, 2020 год для писателя Павла Кренёва стал годом издания целой библиотеки его книг в Болгарии, в Москве, в Архангельске вышли книги «Белоушко» (на болгарском языке), «На огневом рубеже», «Поморские истории» (на русском и сербском языках), «И на земли мир», «Поморский полк».
Журналы «Литературные знакомства», «Александръ», «День литературы» и альманах «Муза» посвятили выдающемуся писателю номера и циклы материалов, опубликовав книгу рассказов, сборник отзывов о его творчестве, беседы с прозаиком и другие материалы. Журнал «Север» опубликовал повесть «Белоушко», а Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и международный пресс-клуб наградили Павла Кренёва всероссийским дипломом «Патриот России 2020» за цикл очерков о людях Поморья.
@Звонарева Лола Уткировна
#ЗвонареваЛола #КреневПавел #Вдохновенный_певец_Поморья
- Подробности
- Автор: Тамара
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0

- Подробности
- Автор: Тамара
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
История Соловков – Соловецкого архипелага, расположенного в Белом море, полна загадок, неразрешимых, неисследованных до сих пор. И загадки эти настолько ошеломляющи,что лично меня потрясает и глубина их, и то, почему при столь открытой, вызывающей доступности к самому существованию этих тайн, никто до сих пор не разгадал и не раскрыл их. А ведь даже незначительное реальное проникновение в сущность этих загадок может принести колоссальные, мировые научные открытия, поменять давно установившиеся концептуальные подходы к истории целых народов.

Был в моей жизни маленький период в середине 80-х годов, когда уважаемый мною тогдашний руководитель Ленинградской студии документальных фильмов Виталий Познин, с учётом моего беломорского происхождения, обратился ко мне с просьбой написать сценарий о современных Соловках. Я с большой охотой взялся за хорошее и нужное дело, залез в справочники, уже опубликованные архивные и исторические данные, и написал его. Он был одобрен и принят к производству редколлегией киностудии.
- Подробности
- Автор: Тамара
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
История действий английской разведки и контрразведки довольно полно освещена в различных уже опубликованных исторических исследованиях. Однако деятельность наиболее эффективного английского шпиона Поля Дюкса практически не раскрыта. Автор очерка делает это с присущим ему великолепным знанием материала и интригующей, драматизированной подачей интереснейших фактов.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
В мировой историографии существуют устойчивые штампы. Например, «Лёва Задов» - Лев Николаевич Зиньковский представляется многим отчаянным бандитом. Очерк «Двуликий Задов» разрушает этот стереотип и показывает Льва Задова как разностороннюю историческую личность, свершившую яркие подвиги во имя советского государства.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
Исторический очерк «Мятеж, которого не было» разоблачает одну из главных легенд советской историографии – о том, что 6 июля 1918 года в Москве произошло восстание партии левых эсеров. Автор доказывает, что никакого мятежа не было, а была организована советскими спецслужбами всего лишь его инсценировка с целью изгнать фракцию левых эсеров из советского правительства.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
В ряду мятежей, направленных против бесчеловечных методов раскрестьянивания, ярко выделяется восстание тамбовских крестьян под руководством Александра Степановича Антонова. О том, как происходило подавление этого восстания и о людях, которые его предали, говорится в этом очерке.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
Много чего напридумано о деятельности органов госбезопасности в 1930-е годы. Но почему-то забывают имена тех, кто подталкивал к развёртыванию террора, о людях, в том числе и знаменитых, кто поддерживал и воспевал репрессии.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
Это интервью с генералом Николаем Николаевичем Селивановским, который в годы Великой Отечественной войны являлся начальником особого отдела Сталинградского фронта. В беседе раскрываются никому не известные ранее эпизоды этой кровавой битвы.
- Подробности
- Автор: Super User
- Категория: Публицистика
- Просмотров: 0
Страница 1 из 2