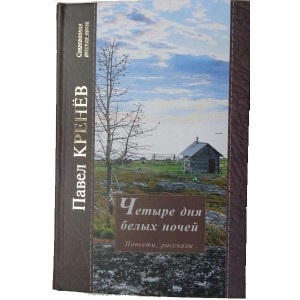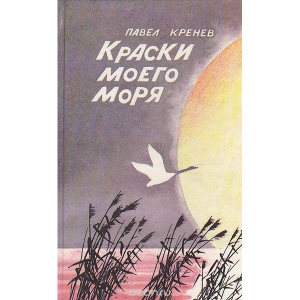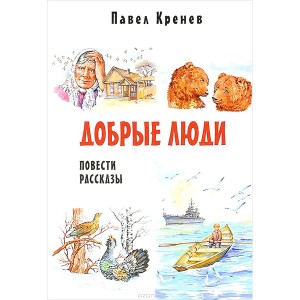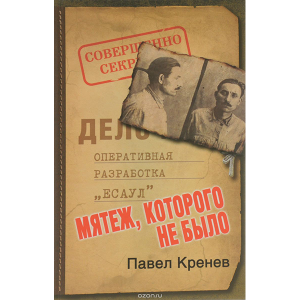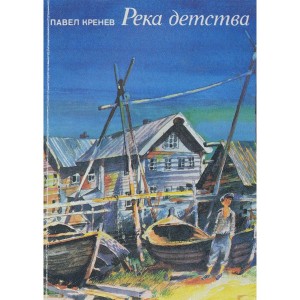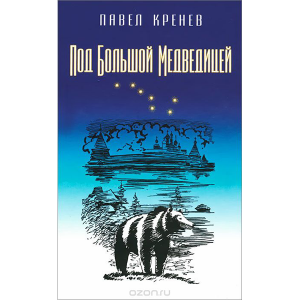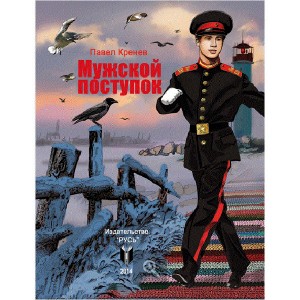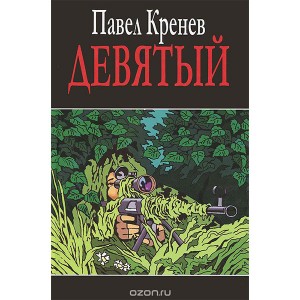Уже [1] в первой книге жившего в то время в Ленинграде тридцатилетнего писателя Павла Кренёва – «Река детства: повесть, рассказы, этюды, эссе» (Лениздат, 1986) местный диалект, язык деревенского детства прозаика – «поморская говоря» – естественно входила в прозаическую ткань произведений молодого автора, тогда и ныне с гордостью подчёркивающего своё поморское, деревенское происхождение. (Писатель, как мы уже говорили, родился в деревне Лопшеньга Приморского района Архангельской области).
Как известно, о поморской говоре писал ещё М. В. Ломоносов в черновых заметках о диалектах, особо выделяя родной «поморский» говор, подчёркивая, что он «несколько ближе к старому словенскому и великую часть России занял». А уже в начале ХХ века М. М. Пришвин, летом 1907 года путешествовавший по Русскому Северу, стал свидетелем независимости поморов, не желающих смешиваться с обширным населением нашей большой страны: «Почему же вы отделяете себя от России? – говорил я. – Вы тоже русские…» «Мы не от России дышим! Впереди вода, сзади – мох… Мы сами по себе…» – отвечали писателю поморы.
Авторитетный московский критик В. Г. Бондаренко, высоко оценивший творчество П. Г. Кренёва, так писал о земляках писателя: «Поморы – последние носители былинного, затерянного, считай, полностью древнейшего уклада Северной Руси, его самобытнейшего языка, который и не сказывался-то совсем, а выпевался в удивительной, былинной, разговорно-песенной вязи народных поморских сказительниц. Живущий доселе на берегах Белого моря народ каким-то чудом пронёс через все лихолетья, бесчеловечные опыты тех, кто душил и разрушал Россию «до основанья», хрустальные частицы подлинной народной культуры, языка и исторического опыта».
Это особенно ощутимо в прозе Кренёва: его рассказы и повести, написанные в 80‑е годы прошлого века, можно без всяких купюр переиздавать в постсоветское время, так как они лишены идеологической ангажированности. Новелла «Первый бал Пеструхи», первое художественное произведение, написанное ленинградским молодым журналистом в 1983 году, дала название новой книге писателя, выпущенной московским издательством в 2020 году. И сегодня она волнует читателей свежестью и оригинальностью точки зрения: мы видим лесной мир и охотника глазами молодой глухарки.
Высокую оценку поморской говоре и самому Павлу Кренёву дал известный писатель из младшего поколения «деревенщиков» В. Н. Крупин: «Архангелогородчина родила и сохранила свои величайшие словесные творения, этому помог чистейший язык – северо-русский говор, в котором звучание, написание и значение слиты в триединстве. Более того, именно на Русском Севере сохранились былины Киевского цикла. Здешние земли не были оглашены заезжими языками, сюда не дошли татаро-моголы, здесь не было крепостного права».
Можно выделить несколько тематических блоков, в обращении к которым прозаик чаще всего использует диалектизмы.
Это, во‑первых, лес, окружающие его поля, и море, с которыми столетиями была связана повседневная жизнь поморов. В экспозиции к первому тексту, озаглавленному «Этюды акварелью», в пейзажной зарисовке читаем: «В большие шторма, когда вода соревновалась в неистовстве с гранитными валунами бакланов, я долгие часы проводил на берегу…». К слову «баклан» даётся сноска – «местное название каменистой отмели». В «Словаре поморских выражений и слов», завершающем книгу «Первый бал Пеструхи», многие связанные с морем понятия уточняются автором: «Бакланы – каменные подводные и надводные валуны в море»; «Взводни» – штормовые волны на отмелях», «голомень» – морская даль, «залудье» – часть морского пространства, располагающаяся между берегом и коргой». «Корга» – читаем в «Кратком словаре поморского языка» – «подводная каменная мель». «Тоня» – место на море, где постоянно ловят рыбу, в «Кратком словаре…» можно уточнить: «Тоня – рыболовный участок для ловли ставным нёводом или другими снастями». А значит, выделяется и специальная – «сёмужья тоня» – место в море, где ловится сёмга. «Заплёсток» – часть морского берега, омываемая волной. О начинающемся шторме поморы скажут: «запотягивалвзводенёк». Удивительным ласковым словом называют поморы такое опасное морское явление, как шторм: они словно заклинают его не забирать человеческих жертв: «погодушка». Что-то угрожающее спрятано в самом звучании слов «ропаки» – торчащие над поверхностью льда ледяные глыбы. В «Кратком словаре…» читаем: «Ропак – вертикально стоящая льдина, нагромождение льда». Или шуга – мелкий колотый лёд. В «Кратком словаре…»: «Шуга – лёд, плавающий в реке до летостава осенью».
А в историческом эссе «По волнам памяти» нам открывается живописная картинка бурного Белого моря: «Вокруг по чёрным гранитным коргамУнских рогов хлещут белые россыпи, несётся по ветру солёная влажная пыль…Корга – каменистая отмель, идущая обычно вдоль берега» – поясняет прозаик в сноске на той же странице. В сборнике рассказов 2020 года это понятие прокомментировано чуть иначе: «корга – морская каменная россыпь, тянущаяся вдоль берега». Ещё один связанный с морем диалектизм – «лудистыепроливины» автор поясняет как «каменистые проливы». Интересные и производные от него – например, «залудье» – часть морского пространства, располагающаяся между берегом и коргой.
В повести «Сваня» мы знакомимся ещё с одним морским понятием – «лахта – залив (местное)», поясняет прозаик, рисуя очередной поморский пейзаж: «Он прошёл почти уже весь берег, впереди открылось ровное место: покатый луг с жухлой, посеребрённой снегом травой, дальше маленькая лахта, тоже открытая отсюда, с гнилым, чахлым берегом». В «Кратком словаре…» это слово имеет три значения: «Лахта – маленький залив на море… 2) Болото вокруг озера. 3) Болото, прилежащее к озеру».
Известно: у северных народов особенно богат синонимический ряд, описывающий разные варианты снега и всё, что с ним связано. Поморы здесь не исключение: снежный занос они называют «замятью», «черновинами» чёрные проталины на весеннем снегу, «набродами» – следы птиц и зверей на снегу, «шалагами» – скользящие по снегу сани, «утренником» – утренний мороз.
Целая волнующая поэма – поморские ветра в описании П. Г. Кренёва: в повести «Беляк и Пятнышко» читаем: «…зимней холодной чёрной ночью огонь раздувается прилетающим с полуночных краёв северным холодным ветерком «Сиверко», который шквальной своей рванью расплёскивает пламя в разные стороны». «Полуночник – северо-восточный ветер. Шелонник – юго-западный ветер на Белом море». А вот как описан «Запад – западный ветер» в рассказе писателя «В отпуске»: «Как и в детстве, на море пестрела рябь, и нехолодный «запад» гнал её от берега, выдувал вдали «беляши». Рассказом о полуночнике открывается повесть «Сваня»: «И вот по ночам сначала украдкой, но затем всё настойчивее запосвистывали, запогуливали над землёй шалые полуночники – северные ветры, повеяли на зелень мертвенным дыханием, просквозили леса колючим леденящим дождём». В рассказе «В сентябре на диком берегу» читаем: «Пока мы рыбачили, пал отлив, да ещё горный ветер помог отогнать от берега воду». Автор поясняет: «Горный ветер – ветер, дующий с берега». В «Кратком словаре…» составитель даёт немного другой вариант этого слова: «Горьной – материковый, береговой ветер». Человеку, желающему спрятаться от ветра, нужно искать тихое место, защищённое от его свирепых порывов: поморы называют его «заветерье». В «Кратком словаре…»: «Заветёрь – защищённая от ветра бухта, залив».
Автор с заметным удовольствием вспоминает поморские названия рыболовных снастей, самих судов и их частей: «На Унских рогах нашли свой конец многие поморские судёнышки: карбасы, лодьи, кочи». «Карбас – беломорская деревянная самодельная лодка». «Коч – палубное двухмачтовое мореходное судно». «Дорка» – карбас, оснащённый мотором. В «Кратком словаре…»: «Дора – большая моторная лодка для буксировки плавающих брёвен». Озорное, выразительное название, словно одушевляя механизм, дали поморы новинке ХХ века – лодочному мотору с ножным запуском – «топнога». Даже такое опасное изобретение цивилизации, как ружьё, поморы словно приручали и мягко вписывали в свою независимую реальность: «тозовкой» называли здесь охотники дробовое ружьё, образовывая это забавное прозвище от фабричной марки «ТОЗ» – Тульский оружейный завод.
Или: «С носового коржка к воде свесился рыбак и устало всматривается в глубь…». Внизу страницы даётся разъяснение (с пояснением в скобках – «Здесь и далее примечания автора»): «Коржок – часть носового киля».«Морда» – вид рыболовной снасти». «Рюжа – вид рыболовной снасти»: «Напротив его дома стоит рюжа». В рассказах Кренёва встречаются «вешала» – приспособления для просушки рыбацких снастей, «воротный кол» – шест, используемый как рычаг при поднятии лодки из воды. «Сети натодельные» – специально предназначенные для каких-то целей герои писателя легко отличат от «промёта» – связанных друг за другом рыболовных сетей. Для ловли тюленей мудрые поморы придумали специальную снасть – «юнду». В «Кратком словаре…»: «Юнда – длинный ряд из связанных вместе сетей». Для разделывания тушей тюленей специальный «шкерочный нож». В «Кратком словаре…»: «Шкерить – разделывать рыбу». А для обработки кожи животных небольшого размера приспособят «пяльцы».
Уже в первой книге молодой писатель не ограничивается воспоминаниями детства и идиллическими картинками поморского быта. В тот период Кренёв ещё не начал работу в закрытых архивах, которая обернётся циклом острых и оригинальных исторических очерков, но история родного Поморья, со всеми её конфликтами, прозаика уже волнует. Свидетельство этому – крошечная историческая зарисовка в эссе «По волнам памяти»: «Вот отсюда, с дальнего рейда (ближе не подойти: залив перед Пушлахтой мелкий и лудистый), пушки английских военных кораблей выплёвывали в сторону поморской деревушки тяжёлые снаряды», а внизу страницы пояснение: «Луда – мелкий морской камень». Несколько иное пояснение этому слову даёт «Краткий словарь…»: «Луда – длинная каменистая мель с множеством островков, идущая у берега моря».
Крестьянский бытийный поморский «лад» (не избежать нам здесь точного слова влюблённого в крестьянский быт В. И. Белова) подарил свои названия и самобытным традициям построения просторных северных домов («выстроенный «в лапу» – способ укладки брёвен при строительстве деревянного дома; «горбыль» – овальная доска, образующаяся при распиле ствола), и многим предметам сельского обихода: например, «палагушки – вместительная посудная утварь»;пестерь – «плетёная из бересты заплечная корзинка». То же читаем в «Кратком словаре..»: «…пестерь – берестяной заплечный короб с крышкой».
Правда, поморы использовали его не совсем привычно для других областей России – для переноса рыбы. Прозаик свидетельствует: «Родичи мои наваливали сорогой полные пестери и несли их домой, кряхтя от тяжести на зыбких и вязких мхах, на размытых талой водой кочковатых летниках, с которых в теневых густолесинных местах ещё не сошёл весь снег».
Кренёв знакомит нас с рыболовными традициями поморов: «Мои предки ловили рыбу так: они приходили ранней весной на своё озеро (по неписанным законам у нас в деревне почти у каждого рода своё озеро) и ставили «Морды» в протоки и ручьи, соединяющие соседние озёра».
Почти все рыбы, водившиеся в соседних море и реке, получили у поморов оригинальные названия. «Может, клюнет страшный, как морской чёрт, и колючий ревяк».Кренёв поясняет: «Ревяк – морской бычок». «В то время по протокам валом валила сорожка…».Сорожкой поморы называли плотву. А «онежан (жителей Онежского берега Белого моря) поморские озорники дразнили «корюшатниками» – якобы им, «кроме корюшки, никто и не клюёт».
В том же очерке, чуть дальше читаем: «В самый распоследний безнадёжный уж момент вы выходите всё-таки на старые суземные пожни, поросшие буйным молодым березняком…». Автор поясняет: «Суземные пожни – дальние лесные сенокосные луга». Или в раннем рассказе «Люди рассудят»: «Рада – болотистое место, поросшее низким редким лесом». Слово «пожня» мы не раз встретим в прозе Кренёва. Так, центральной части очерка в описании лесного пейзажа читаем: «Но вот лес распахнулся, и к вам выплывает прямо из гущи старая, в молодых берёзках пожня». Автор поясняет: «Пожня – лесной луг», лесные сенокосные угодья. В «Кратком словаре…» даётся то же значение: «Пожня – сенокосный луг».
Внимательные к родному лесу поморы подарили окружающему их древесному миру множество свежих, оригинальных названий: «кокорник» – кривой подлесок, «комель» – нижняя часть дерева с корневищем, «корёжистый» – насыщенный корягами, «лапинья» – ветки ели, «слега» – длинное тонкое бревно. «Кокорина – коряга», более точно объясняет это слово автор в повести «Сваня»: «Кокорина – здесь: выступающее из земли корневище дерева». В «Кратком словаре…» читаем: «Кокора – нижняя часть ствола дерева… с корнем».
Непросто пробираться поморскому охотнику через «канабристые буреломы» – труднодоступные лесные места, поросшие густым низкорослым кустарником. В «Кратком словаре…»: «Канабра – багульнично-брусничные места».
Отважные поморские мальчишки и в одиннадцать лет готовы провести ночь в лесной гуще вдвоём с собакой, чтобы только на следующий день вернуться в родную деревню через безопасный «прилесок» – территорию, прилегающую к лесу. А в лесу старого помора поджидает… «кочерыга» – автор поясняется в сноске: «объект в лесу, препятствующий свободному передвижению», а также «подрадья» – влажные места.
При описании луговых красот появляется у прозаика и ещё одно диалектное слово – «кулига» – «ответвления от сенокосных лугов»: «Прямо тут начинается и убегает далеко вдаль широкое, поросшее травой поле с разбегающимися в бока кулигами». То же значение находим в «Кратком словаре…»: «Кулига – 1) росчись для сенокоса в лесу. 2) Клин луга, вдающийся в лес». Своё название дали поморы и высокой траве – «метляк», а стог сена здесь называют «зарод».
Богатство поморской говори писателя вызвало восхищённый отзыв классика В. Н. Крупина: «…необычайное богатство местных слов, синонимических рядов, обозначающих мельчайшие оттенки человеческих взаимоотношений, явлений природы. В словарном запасе Севера нет только похабщины, бранных слов, чем омерзилась нынешняя словесность. Чистота речи идёт от чистоты нравов. Чистота нравов – следствие веры в Бога».
Кренёв словно лукаво возражает Владимиру Николаевичу в одной из новелл, показывая, как сорное словечко прицепилось, судя по всему, во время службы в армии, к одному из деревенских мужиков. Но, смягчённое поморскойговорей, оно прихотливо преобразилось в загадочное словосочетание, над тайным смыслом которого не задумывается никто из земляков говоруна: «У Николая Семёновича была странная, непонятная никому поговорка: «ёштвоюлять». Он применял её повсеместно, при любом разговоре и в любой обстановке, хоть за чаем дома, хоть на людях. За глаза его кое-то так и звал: «Коля ёштвоюлять»…».
Свои названия получали у поморов даже лесные тропинки. В том же очерке читаем: «Утром я ушёл домой по летнику, который совсем слабо, всё же ещё выделялся среди жёлтой травы». Напомним пояснение автора в сноске: «Летник – тропа в лесу, которой пользуются только летом». Луговые цветы у поморов также называются непривычно: «Лишь изредка кто-нибудь нарвёт букетик полёвок…». В центральной России полёвками называют мышей, мелких грызунов, поэтому автор поясняет: «Полёвки – здесь – полевые цветы». Ягоду голубики поморы называют «гоноболь», а стелящийся по земле кустарник – «стланником».
В каких-то случаях любимые диалектизмы оставляются автором без пояснений: «На деревенском кладбище, что стоит на угоре средь высоких молчаливых сосен, поодаль ото всех могил, около самой изгороди…». В 2020 году это слово расшифровано в «Словаре поморских слов и выражений»: «Угор – холм, гора». В «Кратком словаре…» то же: «Угор – холм, бугор».
Во-вторых, это названия оригинальных предметов поморского быта, очевидно, нехарактерных для крестьян из других областей. Пример из того же очерка: «В редкие минуты отдыха, в обеденные перекуры, косари – мужики и бабы – собирались тут, чаёвничали у лавы». Автор поясняет: «Лава – специально оборудованное место рядом с избой для приёма пищи». У каждой части просторных поморских домов и пристроек – своё продуманное назначение: так, «поветь» – это хозяйственная пристройка к деревенскому дому.
Да и еда у поморов называется по-своему: жаркое, к примеру, они зовут «жарёхой».
И со временем отношения у поморов тоже свои, личные: вместо традиционного «в этом году» они говорят «сейгод», вместо «сейчас» – «чичас», вместо «когда-то» скажут «коегодни». А поморы-рыбаки выделяют особый сезон в году – «сёмужью путину» – время ловли сёмги.
В-третьих, это речь деревенских персонажей, общающихся между собой на поморской говоре: «Девкой шла я из соседней деревни… Гляжу – стоит кол дороги мужичонко, маленький, сивой, в бахилах да в фуфайчонке, смотрит, окаянный, на меня и улыбится буде, пальчем манит. Да как повёл, батюшко-о! Перекреститца хочу – руки не могу поднять, остановитца хочу, ноги сами шлепат. От беда, ох темнеченьки-и! Ну и заводил меня по лесу, окаянной. Вернул взад. Не путь значеть был. От беда, батюшки-светы-ы!».
На поморской говоре беседуют в деревне не только старики, но и дети, и взрослые мужчины. «Зараза, – жалится он (Володька – прим. Л.У.З., С.У.) мужикам, – знат, когда вода стыльше!».
Так, маленький внук спрашивает бабушку: «Баба, а зачем он пугат?». Мальчик использует диалектную форму глагола, как и бабушка, отвечающая ему: «Хто его, Паша, знат. Дунька Зьемихавон почему седа?» – «Не знай, баба». – «Девкойпобегла в лес мху драть к Частым озеркам, а он, окаянной, ей дедком прикинулся ейным, Логином. Дак увёл, змей, ажно до Самосушного. Ну не проклятушшой, а? Две дни деву искали. Напужал всю да зашшекотал. Белой-то волос и пробил. Не дай ты осподивстренутьиде!». Даже в советское время прозаик не собирался скрывать многовековую приверженность поморов православной вере (неслучайное присловье у бабушки – «осподи» усечённое «Господи», естественный защитный жест – «перекреститца»). А в повести «Сваня» Герасим уговаривает соседку: «Погоди, Клавушка,… Христа ради, не зря же я тебя позвал, ей-богу…». Кроме того, заметим, самым распространённым ругательством в этом очерке оказывается слово «змей»: «Тише ты, змей, распугаешь всё…», очевидно, имеющий библейские корни «змей-искуситель». В повести «Сваня» этот образ в качестве домашнего ругательства возникает несколько раз: «Лучше бы ты пропил его, змей, чем вот так кокнуть!» – уговаривает жена Зинаида мужа Герасима, неугомонного деревенского изобретателя. «Чего упрямисся-то, змей…» – уговаривает Герасим спасаемого им раненного лебедя. В повести «И на земли мир…» Пелагея, «выкинувшая» на сенокосе ребёнка, жалуется на жестокого бригадира: «Говорила я ему, змееватику, куды ты меня гонишь, несу ведь я…».
А в рассказе «Королевская охота», написанном Кренёвым в 1986 году, читаем про появление нехорошего человека: «Леший несёт». Не забывает писатель и в атеистическое время (на дворе – 1986 год) напомнить о благородном поступке молодого царя Петра Первого: «прожил в Пертоминске четыре дня, чем навёл переполох в тихой монашеской обители несусветный. В знак своего спасения он собственноручно срубил и вкопал на берегу Унской губы огромный крест. Написал на нём: «Сей крест сделал шкипер Пётр в лето Христово 1691».
С православной верой с молодых лет у Павла Кренёва, внука священника Васильевского, свои отношения. Недаром в постсоветское время он построит на свои средства в родной деревне Лопшеньга просторный каменный храм во имя Петра и Павла на месте разорённой большевиками церкви.
Кренёв точно фиксирует фонетические особенности поморской говори.
Особое внимание прозаик уделяет глагольным формам, неизменно точно передавая их фонетическое поморское обличье: «Чего зыриссе, Пашко… Помоги лучше дедку сено до лодки снесть». В повести «Сваня» читаем: «Зина, выдь!… Ну что, не обшалелась ещё?… наездисся…», «А ты кочевряжисся». В новелле «Художник» встречаем глаголы: «умильнуть» – автор поясняет: «убежать, удрать», «пехаичче – стремиться», «дрыгать – ходить, бегать».Популярен у поморов и глагол «блазнится» – видится, кажется, выразительные даже на орфоэпическом уровне глаголы «стрешшало» – раздался треск, «выцелил» – прицелился, «шабаршила» – постукивала, «шмальнуть «пшёнкой» – выстрелить мелкой дробью.
Не менее интересны и оригинальны прилагательные, входящие в состав поморской говори. Сочувствующая раненному лебедю деревенская женщина называет его на местном языке «баженым» – беднягой, бедолагой: «Вон как переваливается баженый». Пожилой, но полный жизненной энергии человек сам себя окрестит «кряжистым» – сильным, жилистым, а разухабистого, весёлого парня поморы назовут «хлестатым».
Мудрым напутствием и сегодняшним молодым людям звучат афористичные слова матушки героя рассказа «Ало, Федька!»: «Попал на море в шторм, не подставляй борт, держись встречь волны!». А завершил первую книгу начинающий прозаик ещё одним поморским присловьем: «Солнце красно к вечеру – моряку бояться нечего».
Нельзя не согласиться с петербургским поэтом и критиком В. Ефимовской: «Напевная, поэтичная разговорная речь героев, обладающая образными местными лингвистическими особенностями, выводит прозу Павла Кренёва на поэтический уровень».
Обратим внимание на заголовки в книгах писателя. Если очерк в первой книге озаглавлен «Этюды акварелью» – в заголовке использованы сразу два слова иностранного происхождения (этюд, акварель), то в дальнейшем Кренёв всё чаще будет выносить в заглавие диалектное словечко («Шелоник», «Пунашки, воротча и госьба», «Душистый клевер Чёрной Шалги») или деревенское прозвище зверя («Белоушко», «Беспалый», «Беляк и Пятнышко»). По предположению В. Ефимовской, «… загадочное название раскрывается не только сюжетом, но и через систему художественных образов, строящихся часто на сочетании слов, выражающих мировоззрение персонажей и самого автора».
Названия зверей и птиц в поморском словаре заслуживают отдельного разговора: «вязким гончаком» назовут поморы гончую собаку, которая не отстаёт от дичи, «потяжкой» – осторожный подход собаки к дичи. «Ушкуем» – медведя, а северную птичку пуночку «пунашкой».
Скрытой символики полна и фамилия писателя, точнее, его псевдоним, вынужденно взятый им по служебным обстоятельствам. В. В. Личутин, долгие годы друживший с прозаиком, напоминает: «Он не спрятался за это прозвище, но как бы приоткрыл свой упрямый, непростой норов, внешне вроде бы податливый и мягкий, ибо Кренёвы – родовая фамилия по боковой ветви. (Само слово «крень» распространено по берегам Белого моря, обозначает свилеватое, жиловатое, косослойное упругое дерево с вязкой болонью, плохо поддающееся топору и гнили, идёт на сваи, «стулцы» под избы, на карбаса и лодьи)».
Именно контраст между свободным использованием заимствованной лексики (например, название эссе «По волнам памяти» заставляет вспомнить поэзию средневековых студентов-вагантов, введённую в те годы в обиход молодёжи в переводе с латыни Л. Гинзбурга, положенную на музыку Д. Тухмановым) и поморской говори – один из оригинальных приёмов построения самобытной прозы писателя. Кренёв не становится «языковым пуританином», закрытым к западным влияниям славянофилом-деревенщиком, не торопится идти по пути создания словаря «языкового расширения», как советовал А. И. Солженицын, и избегать любых заимствований, заменяя их славянизмами.
Неслучайно доктор филологических наук А. Ю. Большакова, анализируя рассказ о любви П. Г. Кренёва «Маргарита Глебовна» стала сопоставлять его не с отечественной прозой, а с романом немецкого писателя Эриха Мария Ремарка «Триумфальная арка», кстати, неслучайно упомянутого в этом произведении писателя-помора. А охотник Герасим из повести «Сваня» для красного словца, уговаривая помочь медсестру-соседку, вспоминает европейскую знаменитость – «клятву Гиппократа», хоть и путает великого врача с поджигателем Геростратом.
В. Ефимовская так прокомментировала языковые особенности прозы писателя: «Использованием живого северного говора, употреблением старинных, можно сказать, «антикварных» речевых оборотов, сохранившихся по меркам нашей всё сокрушающей цивилизации в отличном состоянии, писатель добивается не только убедительности, образной целостности, но соединения разных времён и ощущения вневременности». Именно поморская говоря, по её мнению, придаёт особое обаяние, аромат подлинности, непридуманности, поэтичности гибкой, выразительной и музыкальной прозе писателя, богатой живописными пейзажами, психологически точно выписанными характерами, лирической исповедальной интонацией: «Напевная, поэтичная разговорная речь героев, обладающая образными местными лингвистическими особенностями, выводит прозу Павла Кренёва на поэтический уровень».
Об особой музыкальности прозы писателя пишет и другой поморский классик – В. В. Личутин: «Читаю рассказы Павла Кренёва, и невольно слышу его мягкий, слегка вкрадчивый, баюкающий, согревающий душу сокровенный голос, будто сам писатель возле».
Исследователи склонны видеть в особенностях прозы писателя ещё один – символический уровень: «Не подчиняется строгим нормам язык героев рассказов Павла Кренёва, как не подчиняются этикетным условностям отношения деревенских жителей, которые по жизни не кажутся ни смиренными, ни сдержанными».
Московский критик Н. И. Дорошенко напомнил: В. Г. Распутин «однажды с горечью сказал, что уже не появятся у нас писатели, владеющие русским языком в той полной мере, в какой им владел русский человек, ещё не повреждённый модифицированным языковым продуктом, производимым современной медийной индустрией». В этом плане проза Павла Кренёва – убедительное доказательство живительной силы поморской говори, естественности её возвращения в литературу ХХI века. Ещё раз процитируем свидетельство Дорошенко, так оценившего языковые особенности прозы поморского писателя: «И вся эта богатейшая языковая живопись у писателя не выглядит, как кокошник под музейным стеклом… стихией живого русского языка вливается в русло современной русской литературы Павел Кренёв».
«Неповторимым явлением» считал язык прозы писателя вдумчивый читатель, капитан первого ранга в отставке В. Н. Баринов: «Он помогает раскрыть тайны авторского замысла, широту картины поморского бытия, глубину проникновения в жизнь поморов, в особенности их быта, психологию людей, кровно связанных с родной природой, морем-океаном, с историей. Автор повести говорит на самобытном, чрезвычайно выразительном художественном языке, представляет свежую, ещё не «вспаханную» другими писателями целину жизни российских поморов».
Всё это позволило известному московскому литературному критику Л. А. Аннинскому назвать прозу Павла Кренёва«Важнейшим откровением нашего духовного достояния».
Считается: поморская говоря способна создать дополнительные сложности переводчикам. Действительно, когда над текстами Кренёва работали болгарский литературовед Ивайло Петров (перевёл повести «Девятый» и «Белоушко»), черногорский поэт ВойиславКараджич, переводивший, сборник «Поморские истории» и одна из авторов этой статьи, переводившая вместе со студентами новеллу писателя «Королевская охота» на турецкий, – все они в разное время обращались к писателю с просьбой прокомментировать непонятные диалектные слова – поморскую говорю.
Польская поэтесса МалгожатаМархлевска (она перевела на родной язык повесть писателя «Беляк и пятнышко» и рассказ «Маргарита Глебовна») во время Горьковского фестиваля в Нижнем Новгороде, беседуя с французским прозаиком Тьерри Мариньяком (он перевёл повесть Кренёва «Девятый»), поделилась опытом: для передачи поморской говори она использовала в речи персонажей польский диалект – кашубский говор.
…В 1957 году любимый писатель П. Г. Кренёва М. А. Шолохов, также с удовольствием насыщавший свою прозу донскими диалектизмами, написал статью «Сокровищница народной мудрости» – вступление к «Пословицам и поговоркам русского народа» В. И. Даля, подчеркнув: «Важнейшее богатство народа – его язык. Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта». П. К. Кренёв, вслед за М. А. Шолоховым, героем исторического эссе писателя «Я свидетельствую…», и В. М. Шукшиным (неслучайно упомянутом в раннем рассказе писателя «Алё, Федька!»), сохраняет эти традиции, обогащая и преумножая знания читателей о великом и могучем русском языке.
Кроме того, даже краткий анализ используемой писателем поморской говори показывает: рассказы и повести П. Г. Кренёва создают в современной прозе своеобразную «поморскую энциклопедию», открывающую читателям уникальную бытовую и духовную культуру поморов во всей её самобытности.
@Звонарева Лола Уткировна
[1]357 В подготовке этого текста участвовала доктор филологических наук, профессор, переводчик прозы П. Кренёва на турецкий язык СевингУцгюль.
#ЗвонареваЛола #КреневПавел #Поморская_говоря #ПисательКренев #О_Севере_о_людях